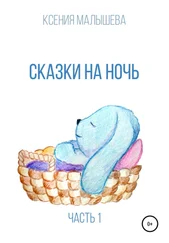Воротилась Марья домой, думала-гадала три дня и три ночи, потом пришла к колодцу и говорит:
– Нет у меня ни жалости, ни раскаяния, что тебя погубила!
В тот же миг, как затихло эхо Марьиного голоса на дне колодца, поднялся в лесу ветер небывалый. Заскрипели дерева, закачались. Одна из сосен наклонилась, нырнула верхушкой в колодец и вытащила Дарью, живую и невредимую.
– За то, что погубила меня, прощаю тебя, сестрица, – молвила Дарья. – Да Иванова любовь, как обещано, вся твоя!
Завыл тут ветер пуще прежнего, затрещал стволами, зашумел ветвями, поднял Марью и понёс к Ивану. Закрутил, завертел ветер мужа с женою, разорвал на мелкие кусочки, понёс по миру. Там, где падали они наземь, вырастал цветок с синими листами и жёлтыми цветками. О тех цветах сложили люди немало легенд и песен, а уж которая из них правда-истина, одному только Богу известно.
– Ой, баю, баю, баю,
Баю детоньку мою…
За оконцем – темь, осенний морок.
Шорох прялки да матушкин голос, густой и мягкий, точно заячья шкурка, укрывают Никитку, окутывают с ног до головы, согревают, убаюкивают.
– Не ходи по-за дворы,
Не топчи чужой травы…
Никитка открывает глаза – сон ушёл водой в землю. Лучина почти дотлела, и тусклый, неровный свет вот-вот сдастся наступающим из углов теням.
– Мама, – шепчет Никитка, – а пошто нельзя на старую кузню ходить?
Матушка вздыхает, а из дальнего угла слышится возня и насмешливая ругань старшего брата:
– Вот же глупый пенёк. Там Чёрный кузнец тебя схватит и утащит в печь!
– Иван, а ну! – строго шепчет мать в темноту и, вновь повернувшись к Никитке, устало улыбается: – Уж сколько раз тебе говорено, касатик…
– Ну, ещё расскажи, мамушка, – одними губами, чтоб не прослыхал брат, просит Никитка.
Лучина тихо потрескивает, и на матушкином лице лежат неверные тени: вместо добрых незабудочных глаз – тёмные провалы, а на всегда румяных щеках – глубокие скорбные впадины. Никитка крепко-крепко зажмуривается и слушает историю, которую знает наизусть каждый ребёнок на селе: давнюю историю про деревенского кузнеца, заживо сгоревшего в печи старой кузни…
***
Много раз матушка наказывала Никитке не ходить к лесу, не забредать в старую кузню, да только тянет туда мальчонку, что твоего мотылька на огонь…
Быстро бежит времечко: вот уж и осень отплакала, и зима отвьюжила, и весна отгуляла-отплясала – наступило лето красное. Носится по округе озорной ветерок: шелестит листвой в берёзовой роще, шумит высокими травами, приносит с дальних полей песни косарей и зазывный рожок пастуха, трели зябликов, свивших гнездо в кустах калины, крики уток со двора. А в кузне тихо – ни звука, будто кто зажал Никитке ладонями уши. Но ведь никого тут нет?..
Дощатая дверь откинута – повисла на одинокой ржавой петле. Порог скрипучий, ненадёжный. Окошки повыбиты. Земляной пол покрыт толстым слоем сажи и пружинит под ногами, точно болотная кочка. Тревожный запах гари висит в недвижном воздухе.
Никитка добрался уж до самой середины кузни, где по сию пору стоит на кряжистом дубовом пне наковальня – и как только цыгане не утащили?
А вон и печь: смотрит из дальнего угла, разинув огромную чёрную пасть. Обугленный кирпич вокруг печного зева раскрошился от времени.
Никитка набирает полную грудь воздуху и идёт прямо к печи: шаг, второй, третий. И кажется ему, что то не он идёт, а печь сама вырастает над ним – огромная, чёрная, бездонная! Сердце стучит быстро-быстро – так бьётся в ладонях пойманный птенчик.
– Вот ты где, пенёк! – раздаётся сзади.
Никитка от неожиданности тоненько вскрикивает и зажимает чумазый рот ладошками.
У наковальни стоит Иван, старший брат. Высокий, кудрявый, синеглазый, а на гуслях играть мастак – такого поищи. И до чего смелый! Не забоялся через большой костёр на Ивана Купалу прыгнуть, не струсил идти с мужиками на медведя, вызвался стеречь по ночам сельский табун от цыган, а в прошлом годе, на исходе месяца листопада, всю Велесову ночь провёл один в поле под смётанными на зиму стогами – так просто, забавы ради…
«И не страшно тебе, Ванюша?» – вились вокруг Ивана девчата. «А чего бояться? У меня вона – оберег», – смеялся Иван и вытаскивал из-под рубахи медальон на шнурке. Следок медвежьей лапы с зазубринкой – то дед Евстигней Ивану перед самой смертью передал и наказал носить, не снимая.
А вот Никитка боится. Страсть как боится всего на свете: и темноты, и медведей с волками, и домового, и кикиморы, и лешего, и даже вот этой самой заброшенной кузни у леса…
Читать дальше

![Эрик Рассел - Ночной мятеж [=Конец долгой ночи] (ёфицировано)](/books/65157/erik-rassel-nochnoj-myatezh-konec-dolgoj-nochi-efi-thumb.webp)
![Эрик Рассел - Конец долгой ночи [=Ночной мятеж] (ёфицировано)](/books/65159/erik-rassel-konec-dolgoj-nochi-nochnoj-myatezh-efi-thumb.webp)