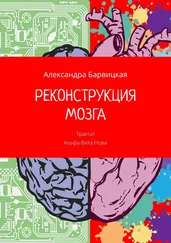Но если найдётся хоть одна живая душа, которая согреет Тонатиу и перенесёт его на себе через рубеж 5*1*25, то мирно уснёт на плечах времени Пятое Солнце, и проснётся внутри Шестой Воды: Солнце Первое – Солнце Радости, Солнце Ра.
Эй, Человек!
Посмотри на Солнце!
Посмотри на Солнце своей Вселенной!
Посмотри на него внимательно.
Посмотри ему в глаза!
Кого ты видишь в них?
Уже Ра или ещё Тонатиу?
Только тебе решать, Человек!
Ведь ты, Человек, и есть Вселенная!
Каждый Человек – Вселенная.
И сколько людей – столько вселенных.
И у каждого – своё персональное Солнце.
И у каждого – свой Тонатиу.
И у каждого – свой Ра.
И чтобы родился в твоей Вселенной твой Ра, в тебе должен растаять лёд, в тебе должен уснуть Тонатиу, открывая двери Шестой Воде.
Позволь ему навсегда уснуть легко!
Не дай ему унести с собой и тебя.
Позволь ему переродиться в Ра.
И пока ты не поймёшь это, будешь носить на себе лёд Тонатиу, отогревая его жаром своего сердца, если у тебя горячее сердце.
А если сердце твоё холодное, как нос щенка, выброшенного из материнского нутра в грязную подворотню, или как кожа змеи, сплетённой в клубок с сородичами во время спячки, или как обсидиановый резец языка Тонатиу, или как Солнце Движения, приготовившееся пройти сквозь смерть…
Она была в теме? Или тема была в ней…
Она никогда не знала, когда это начнётся, но всегда понимала, когда начиналось. Оно начиналось с груди.
– Верните Алекса.
– Я понял, о чём вы. Гениальность вернём.
– Вы не поняли…
– Кто вы? – спросил он.
– Вселенная, – ответила она.
– Моя, – подхватило эхо комнаты…
– Sui generis, – уточнила она.
Комната была ослепительно бела.
Снежно-мучные стены, пол, потолок, и даже сам воздух, излучали свет, мерно выливая его из потаённых карманов и пазух в скованное бетонными панелями чрево кубического пространства комнаты.
Окно – рамой стражника – отделяло свет от тьмы, зашторенной крепкой настойкой плотного тумана. За окном едва пробивались искусственные электрические тычинки, тщетно расстреливающие мрак из изогнутых маковых головок фонарных столбов, выстроенных вдоль улицы двумя прицельными рядами.
Ночь, давившая всей тучностью своего веса на сопротивляющийся город, виделась в сравнении с нутром жилища совершенно сажистой. Но даже эта приговорённая к расстрелу беззвёздная дыра бездны, зажатая в белый контур оконной рамы, не могла запачкать угольной пылью тьмы выстиранное отбеливателем полотно маленькой комнаты в три на три метра.
Комната была ослепительно бела и наполнена.
В ней не было: ни стула, ни стола, ни кровати, ни шкафа, ни картин, ни зеркал, ни комода, ни канделябров, ни так любимых хозяйкой комнаты книжных полок и даже самих книг.
В белой комнате не было ничего рукотворного, кроме устремлённых прямо друг в друга двух входов-выходов: двери и окна с длинной ступенькой подоконника, отделявшего разбухающий светом внутренний мир комнаты от затягивающего в неизведанное, которое широким зрачком ночи заглядывало сюда извне.
Комната была ослепительно бела.
И полна.
В комнате находились двое: хрупкая женщина и высокий, крепкого телосложения мужчина лет тридцати пяти.
Её скулы и по-детски зажатые плечи были чуть прикрыты вьющимися рыжеватыми волосами. Они оттеняли тонкие черты лица, алое пятно пламени между бровей и рассеянный, растекающийся по клеткам, направленный внутрь себя взгляд.
У него были цепкие, будто знающие далеко наперёд, не по годам мудрые, глубоко посаженные карие глаза. Каштановые волосы чуть спадали на высокий лоб, расчерченный тремя горизонтальными линиями рано обозначившихся морщин. Такие бывают у людей, чей мозг работает куда чаще и напряжённее, чем руки. Впрочем, и ладони этого мужчины, как и всё остальное, были наполнены мужской красотой уверенности и спокойной силы.
Она – наспех одета в наброшенный на голое тело зелёный шёлковый сарафан, открывающий бледные, давно не видавшие солнечного света, худенькие руки и босые ноги с заострившимися коленями.
Ткань сарафана время от времени меняла цвет и покрой, становясь то красным, то оранжевым, то жёлтым, то голубым, то синим, то сиренево-фиолетовым платьем.
На нём были: лёгкий серый плащ, наброшенный поверх чёрного костюма тончайшей шерсти, скрывавшего ослепительно-белую рубашку, и классические замшевые туфли ручной работы, выдававшие в их хозяине человека вне толпы, вряд ли пользующегося общественным транспортом.
Читать дальше