Все разладилось в этом большом человеке: пропал голос, потухли глаза, тело под одеялом – мешок с костями.
– Бориска, я видел сон. Такой хороший сон! Такой яркий! Там были все мои близкие. Мать, отец, мои жены, царствие им небесное, все дети мои. И ты, Бориска, ты там тоже был, – Василий тепло улыбнулся. – И мы все как будто в огненную колесницу забрались. А ты на козлы сел и начал править. И улетели мы прямо в небо. А на небе – Царица и все ее ангелы сладкоголосые. И все поют. И на душе так хорошо…
«Я тоже видел сон, – подумал Борис, – где я употребляю тебя противоестественным образом. Правильно говорят, что во сне все наоборот.»
Василий отбросил одеяло и рванул рубаху на груди.
– Я вижу, зачем ты пришел, Бориска. По глазам понял. Знаю этот взгляд. Ты злое замыслил. Я сам злой, я такое хорошо вижу. Я на троне столько просидел, потому что хороших от злых отличаю. Знаешь, в чем разница? Злой только о своей выгоде думает, а хороший – о ближнем. Злой ни перед чем не остановится, а для хорошего все – преграда. Злой бежит, а хороший стоит, ни на что не решается. Думает, как бы кого не обидеть. А бывают люди ни туда ни сюда, ни зла в них нет, ни добра. Куда ветер, туда и они. Что слепишь из них, то и получишь. А если не лепить, то и будут они ни рыба ни мясо. Вот ты, Бориска, такой же: пустой. Никому от тебя добра не будет, но и на большое зло ты никогда не решишься. Подует ветер, побежишь, успокоится – и ты вместе с ним. – Василий вдруг хохотнул. – Знаешь, как мы тебя между собой звали? Борис Без Яиц. Ха! Борис Без Яиц! Это потому, Бориска, что у тебя яиц нету.
Борис слышал от Василия это обидное прозвище. Государь не знал меры в питье и, напившись, часто бранил окружающих. Из-за особого положения Борису доставалось пуще прочих. Но Борис сумел за годы отрастить толстую кожу: на службе у Василия иначе было нельзя. Выгод от службы все равно было больше. Вот и сейчас: пусть изгаляется, недолго осталось. «Как мы тебя звали, тебе лучше и не знать, старый ты черт. Ладно, пусть у меня, по-твоему, яиц нету, это не так обидно, как иметь такой сморчок, как у тебя. Совсем не царский размерчик. Мы на него насмотрелись во время припадков. Точнее, глаза сломали, пока пытались рассмотреть».
– Ты ведь убить меня пришел, признайся, Бориска Скопец? – сверкнул глазами Василий.
Государь весь преобразился. В глазах запрыгали черти, губы растянулись в улыбке, будто этих слов, этой мысли он ждал для выздоровления. Василий приподнялся на кровати и впился в Бориса немигающим взглядом. Зрачки в покрасневших глазах так расширились, что серая радужка совсем исчезла. Борис подобрался. «Первым делом горшочек схвачу из-под кровати, накормлю его величество царскими удобрениями».
– Я пока здесь лежал, Бориска, я много думал, – запальчиво начал государь; он торопился, глотал окончания слов, будто боялся, что не успеет сказать. – Я обо всем передумал, пока эта проклятая болезнь ела меня. О жизни, о смерти, о предназначении, о роли государя в судьбах людей. И знаешь, что я тебе скажу? Мне многое открылось. Я всегда знал, что о самом главном можно просто догадаться. Вот я и догадался. Ты оставь свои паскудные мысли и послушай меня лучше, выйдешь отсюда умнее, чем вошел.
Василий вдруг упал обратно на подушку и какое-то время молчал. Борис осторожно привстал и внимательно посмотрел на Василия, пытаясь разглядеть, дышит ли тот. Злодей открыл один глаз и подмигнул Борису. Борис вздрогнул. «Ну что за беса нам Царица в государи определила?»
– Сядь, Бориска, и слушай, – государь повернулся набок и заговорил энергично, как будто заучил заранее. – Лучше бы тебе записывать, но ты, дурак, грамоте не обучен.
«Сказал полоумный царь», – огрызнулся про себя Борис. Но, с другой стороны, на правду не обижаются: Борис, при всем его известном красноречии, так и не научился писать. Государь любил, чтобы ему читали вслух, а Борис часто бывал при нем, так что понахвататься успел, но всерьез грамоту так и не освоил.
– Ничего, запомню как-нибудь, – сказал Борис. – Я же не буквами думаю.
– Запоминай получше, – хрипло рассмеялся Василий. – Через сто лет все будут жадно выискивать любое упоминание обо мне, каждое мое слово. Через двести мне повсюду поставят памятники. А через триста признают, что я был величайшим государем в истории.
«Через триста лет никто и не вспомнит, что ты жил, – подумал Борис. – А если и вспомнят… Надеюсь, к тому моменту наконец изобретут бумагу для подтирания да твой светлый лик на ней отпечатают».
Читать дальше



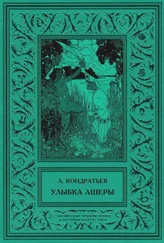
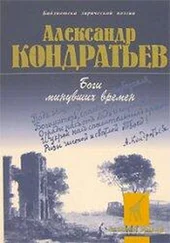
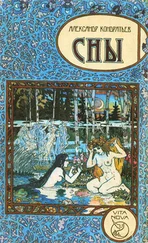
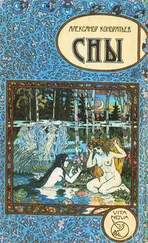
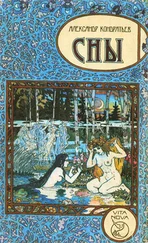
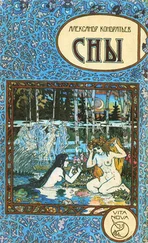



![Александр Кондратьев - Свален ударом грома [СИ]](/books/385133/aleksandr-kondratev-svalen-udarom-groma-si-thumb.webp)