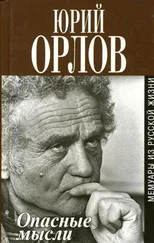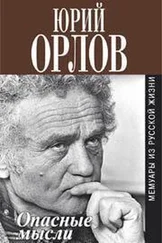Жизнь текла тупо, вот в чем беда! Автоклав за автоклавом, деталь, за которой шла следующая деталь, из дома на работу и с работы домой. Сплошная нержавейка! Стружку я находил даже у себя в трусах, и сей факт радовал, позволяя не думать о хлебе завтрашнего дня. Временами мечталось о заслуженной пенсии, но задворки разума почему-то давали сигналы тревоги, сообщали о невозможности долгого нахождения в состоянии глупого счастья.
Благоприятное положение вещей не может продолжаться бесконечно – законы эволюции этого не предполагают. Я ждал потрясений. Но дождался лишь того, что бросил употреблять алкоголь. С чего это вдруг я бросил пить – сам не пойму! Иной раз сижу возле компьютера на втором этаже снятого коттеджа, ставлю виртуальные камни на виртуальную доску и даже забываю о том, что пора бы уже и напиться. А потом ложусь спать, так и не дождавшись прихода жены с работы, а сына с улицы.
Ночные прогулки по Иерусалиму с тяжелой почтовой сумкой для газет по прошествии каких-то двух месяцев уже не казались ночным кошмаром. Мне стало не хватать пустынных переулков, одетых в тяжелые влажные облака тумана, сквозь которые едва видны спящие кафе под тусклыми огнями реклам. Стены Старого Города, освещенные желтым светом ночных фонарей, блокпосты с недремлющими пограничниками и тревожная перекличка муэдзинов в моих воспоминаниях уже не несли никакой враждебности. Я по-прежнему просыпался около трех ночи, и сила привычки толкала из ложа на склад получать газеты. Но проснувшаяся память о том, что не нужно никуда ехать накрывала темным бархатом уюта, и я блаженно засыпал, зная, что впереди еще целых три часа сна. Но еще большим блаженством накрывала мысль о том, что, когда я приду на работу и дам станку грызть очередную деталь, можно будет беспрепятственно дочитать очередную книгу Мураками, послушать радио или разобрать взятую из Интернета партию профессионалов Го.
Всего два месяца назад состоялся мой последний разговор с отцом по телефону. Между нами лежали два моря – Средиземное и Черное. Тревожные волны проходили сквозь меня начиная с утра.
Работал я тогда на другом предприятии, которое принадлежало трем братьям, выходцам из Ирана. Устраиваясь к ним, я ничего не знал о настоящей скупости. Мое финансовое положение было отчаянным, я продал себя, не имея другого выхода, за минимальные деньги, и по этой причине был вынужден взять подработку на развозке газет. Ничего удивительного и сверхъестественного – так делают многие, когда расходы превышают доходы. Беда только в том, что это затягивает и, спустя некоторое время, мне уже стало казаться, что спать по четыре часа в сутки, не читать книг, не слушать музыку, не играть в Го – это нормально.
Взяла трубку мама, и, скрывая волнение, сообщила, что отец неважно себя чувствует. Все серьезнее, чем обычно, подумалось мне. Отец же, как всегда, шутил, рассказал свежий анекдот. «Не волнуйся, – сказал он. – Мама преувеличивает»…
Медсестры говорили, что даже в последние минуты своей жизни он продолжал шутить, открыто смеялся в лицо смерти.
Иранцы с пониманием отнеслись к моему отъезду и даже ссудили деньгами на билет, поставив под вопрос всеобщее мнение об их скупости. (Впрочем, когда я вернусь, они вычтут все до последней агоры.)
Я летел в самолете, наблюдая за радужным кругом, сидящим на его крыле и за сочной подсветкой облаков, плывущих внизу. Думал о том, что этот радужный круг, возможно, является душой моего отца или таинственным воплощением его ангела-хранителя, который теперь принял на себя заботу о моей благополучной доставке домой. Этот ангел, существуй он на самом деле, видимо взял на себя заботу о том, чтобы вырвать меня из железных тисков накатанной колеи, по которой, подобно общественному насекомому, я катался изо дня в день.
Похороны отца оказались станцией отправления не только для него, но и для меня. Он отправился в пределы неведомые и потусторонние, косвенно предложив под иным углом взглянуть на мою собственную жизнь. Я взглянул, и почему-то показалось, будто что-то в этой жизни неправильно, словно бы что-то нарушается, и за спиной осталось что-то важное, – такое, чего нельзя пропустить мимо. Но это важное – ускользнуло, поэтому и впереди, как ни всматривайся, простиралась безнадежная и серая пустота.
Контрапунктом моего детства были стихи Маршака, стихи папы и папин живот.
Живот у папы был тугой и звонкий. "Мой звонкий мяч!" – называл я его. Когда мне было шесть лет, мы играли так: я отклоняюсь туловищем назад и ударяюсь о живот лбом. Внутри у папы что-то шумело и переливалось. Это была терапия и такая игра. Папа просил, и я ударялся.
Читать дальше