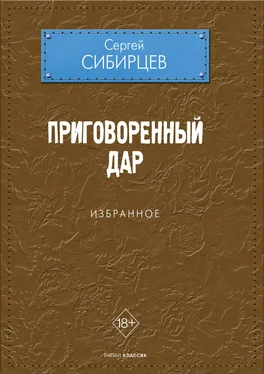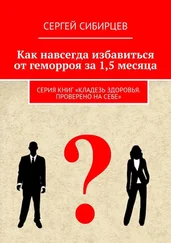Я впал в спасительную каталепсическую беспамятную обездвиженность, выйдя из которой, я обнаружил себя лежащим на тахте своей ученицы, с аккуратно застегнутой джинсовой прорезью, но без свитера и рубашки. А совсем рядом, вплотную сидящую маму ее, и отнюдь не в роскошном унопомрачительном наряде глянцево-журнальной кокотки, а все в тех же обычных домашних чужеземных шелках с набивным японским орнаментом.
– Ну что, Игорь Аркадьевич? Что с вами случилось? В голодные обмороки вздумали падать. Как ваша голова, – не кружится больше? Сейчас полежите, и я вас покормлю. Кагором угощу. Вы, вероятно, предпочитаете, как настоящий студент, какую-нибудь винную дрянь, которую пьяницы окрестили «бормотухой», ведь так? А водку вам, Игорек Аркадьевич, еще рано. Вы еще молоденький! И в обморок хлопнулись, как тургеневская барышня! Я не смеюсь. Я вас, Игорь Аркадьевич, жалею. Я ведь мама. Мне положено жалеть слабеньких.
Я же, точно тайно нашаливший ребенок, уводил, прятал глаза, смаргивал несуществующую соринку, всерьез страшась попасть в перекрестье по-домашнему спокойных, мягко усмешливых, участливых и совершенно же неженских, не кокетливых серовато-синеватых зрачков хозяйки. Этой по-бальзаковски очаровательной и все такой же неузнанной, недоступной, удивительно тактично держащей дистанцию (даже сейчас, после необъяснимого ее видения в образе…) номенклатурной вышколенной дамы советского полусвета, принужденно закинувшей нога на ногу и не думающей замечать разъехавшейся тяжелой скользкой ткани, открывающей (так, между прочим) ее золотисто-капроновое мощное, истинно женское бедро до элегантного тонко-никелированного защипа черной подтяжки, чуть выше которой белел, выделяясь, кусок чистой женской недоступной плоти.
Я пробовал домыслить происходящее со мною, – ведь не в болезненном бреду привиделась мне это волнующая, таинственная, обнаженная задница взрослой красивой женщины, в которой очарование присутствовало чисто зрительное, художественное, холодноватое и почти неуютное, а возможно, и неприятное, но оттого более завлекающее, непонятное в своем призыве прикоснуться, дотронуться, чтобы окончательно убедиться в ее истинной мраморной ровной хладности… Я надеялся, что обнаружу под пальцами прохладу чудесно ожившего изваяния, с которым поделюсь накопившемся, нерастраченным, вечно притушаемым, тайным жаром сердечным…
Я почти уверовал, что именно этой синеглазой, стриженно-черно-бурой женщине я доверюсь весь без остатка, и чем скорее, тем жарче будет мое горение, вся моя дурная нежность, которую удерживать в себе, в своем сердце уже нет никаких человеческих сил и терпения. Все, что прежде изливалось из меня на развращенную капризную малолетку, научившую, натаскавшую меня всем этим похотливым игрищам, оказалось лишь остро-пряным суррогатом всего того, что ждал я встретить в женском существе.
А существо подвернулось малолетнее и, само того не желая, заразило меня психопатией, эротоманией, которую я страстно надеялся излечить, избавиться, прикоснувшись, доверившись ее холодной, величаво предупредительной маме. Маме, сидящей сейчас вблизи меня, потерянного, опозоренного и не представляющего, как же подступиться к ней, к ее шелковому мраморному белому телу, от которого исходили странные, как бы не живые, но чрезвычайно чувственные тяжелые волны пьянящей, вседозволяющей бесстыдности. Но именно эту липучую, клейкую, чувствительную, истомляющую музыку я глушил в себе, понимая, что если безвольно отдаться ее роковому течению-стилю, то пропаду без сомнения, превратившись в сырой, вечно напряженный кусок мужского мяса, – всегда готовый к животной, бессмысленной и бесконечной случке…
И я, бедный студент-репетитор, не ошибся в своем сердечном выборе, в своем сердечном тайном помысле, в котором я отвел себе роль второстепенную, подвластную, подчиненную, ведомую.
В этот фантасмагорический вечер я удержал себя, удержал свою дурную сырую энергию, которой до этого почти всю весну делился с девочкой распутной и бездарной в науках, бездарной и в качестве существа разумного человеческого, не отдающего обыкновенного маленького тепла и благодарности, зато всегда наглой и самонадеянной до степени знака бесконечности.
Меня, комплексующего психопатного студента-старшекурсника, все-таки допустили до таинственного зрелого бальзаковского бедра этой холодной дамы. Допустил законный ее супруг, занимающий к тому закатно-закисшему времени один из канцелярских кабинетов в Доме российского правительства.
Читать дальше