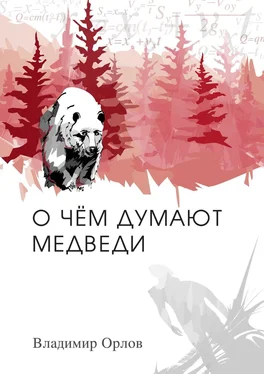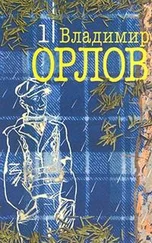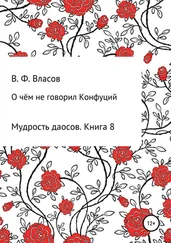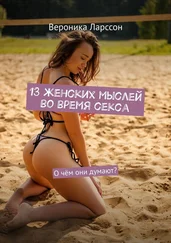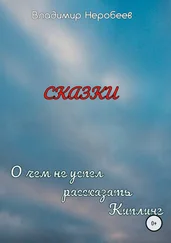– Все так и будет, – сказал я.
Анатолий склонился к моему уху и прогудел равнодушным баритоном:
– Вам нужно заехать ближе к полуночи в институт, когда там уже никого не будет из персонала. Вас ожидают там, наверху, – сказал он и поднял глаза, намекая на вышестоящих. – Честно говоря, я бы на вашем месте не ездил. Это похоже на западню. И ребенку же ясно, что вам никакие встречи не нужны, что у вас все есть, чтобы завершить работу. К тому же на вас не возложено никаких обязательств. А если вы будете слишком откровенным, то неприятности будут у вас, у нас и у них тоже. Назначать позднюю встречу человеку вашего уровня на верхнем этаже этой бессмысленной конторы с пошлейшим видом на ночной город – это еще и унизительно. Мне просто поручили это передать и сделали соучастником, иначе я бы поехал туда с вами и набил бы им всем морды.
Я с искренней признательностью потряс руку техника.
Когда он сконфуженно откланялся, ко мне, не спеша и немного покачивая своей крупной каменной головой с прилипшими завитками, приблизился Беляев.
– Теперь я сто раз подумаю, прежде чем что-то для тебя сделать. Я не смогу нарушить распоряжение. И с тобой мы все можем погореть. Так что мы видимся в последний раз. Тебе придется рассчитывать на самого себя. Конечно, пока ты не найдешь своего ассистента. Но шансов почти нет. Я думаю, этого Мухина давно уже нет в живых. Все, кто оказывается в такой ситуации, недолго задерживаются на этом свете. Конечно, в этом есть и доля моей вины. Мне надо было тебя подстраховать, понятия не имею, каким образом. Мы исследуем кое-что странное, сами еще не знаем, что именно. И вероятно, ставки продолжают расти. Поэтому тебе не стоит ни о чем сожалеть. Скорей всего, это будет достойный конец. Небесполезный. Многие гибнут без всякой пользы. Почти все, с кем я был знаком. – Он лукаво взглянул на меня, похлопал по плечу и добавил: – Но мне почему-то кажется, что ты выкрутишься. Пока еще не представляю как.
Чисто по-человечески я был ему благодарен за сказанное, но не ожидал от него столь бессвязной речи. Конечно, в том, что он нес эту ахинею, чувствовалось его расположение ко мне. И в том, что не стал подслащивать пилюлю, а, как мог, поддержал своим безнадежным приговором. В этом был весь Беляев. Утонченный тяжеловес.
Единственное, чего я за эти годы так и не смог придумать – как подтвердить, удостовериться, что все эти люди, которых я когда-либо встречал, действительно существовали. Например, Серафим и Эльвира. Или Олег. Да никак! Я бы хотел сохранить их в памяти, но их там не было. Какая-то рябь – не больше. Кое-что удавалось воспроизвести: глаза, глядящие странно, сердечные объятия, нелепые гримасы и мучительные интонации. Даже дыхание, если ты хотя бы раз его слышал, можно было воспроизвести интонационно внутри себя. Память не сохраняла то, чем все это было, саму причину. Поэтому она была бесполезна.
Я поднялся на лифте на двадцать третий этаж, где были устроены особые комнаты для закрытых совещаний. Я лишь недавно начал привыкать к столь высокой степени звукопоглощения, которым обеспечивались офисные блоки с предельным уровнем волновой защиты. В городе, где очень удобно было пребывать в атмосфере тотального шума, я купался в звуковом потоке. И тишина, на которую я натыкался в таких редких герметичных пространствах, звучала у меня в ушах монотонным жужжанием – почти неотличимым от белого шумового фона, которым в прежнюю эпоху заполняли слух работников умственного труда, чтобы они не теряли рассудок. Здесь наверху тишина стихала и становилась поистине беззвучной, а мой эндотранслятор не создавал никаких помех.
У меня появились особые предпочтения из мира звуков. В шумном мире ценилось все мелодичное: китайские колокольчики, звук флейты, перебор струн на гитаре, а также звон стеклянных графинов, стаканов и бокалов. Здесь они звучали слишком рафинированно, неестественно, не в состоянии соперничать с безмолвием. Зато все механическое: часы с пружинным механизмом, поворачивающиеся дверные ручки, петли на дверцах в шкафах – это не раздвижные двери с электроприводом, взвизгивающие, словно удавка на шее. Все, что могло скрипеть и щелкать натуральными стальными и деревянными частями, услаждало мой слух и даже позволяло тренировать пространственное звуковое зрение.
В отличие от шумного мира, где звуки летели непонятно откуда, часто дезориентируя восприятие, здесь каждый скрип имел такую плотность, что его место можно было безошибочно определить в пространстве. И чтобы найти его, не обязательно, чтобы он звучал постоянно, – отдельный треск облицовочной панели или паркетной доски был так четко локализован, что я не спеша подходил к этому месту и указывал на него пальцем. Я совершенно не ленился бросить все и сделать эти несколько шагов, потому что каждая такая звуковая вспышка наполняла мое сердце радостью.
Читать дальше