Я бью правым локтем: с разворота, чуть вниз и насколько возможно за спину. Локоть находит пружинистую, но вполне осязаемую массу. Затем левым локтем. И кричу. Потому что чувствую, как саморезы, ввинченные в мою плоть, выдираются с мясом. Но сейчас эта боль целебная. Руки нащупывают за спиной что-то склизкое и холодное. Ничего, ухватить можно. И я хватаю, и отрываю, и сбрасываю на землю шевелящееся нечто. Он тут же поднимается: черный, трудно различимый в темноте, в свете почти потухшего костра. Но уже осязаемый, плотный. Как насосавшийся клещ. Терпи, говорил Старый Учитель, терпи, пока насосется твоих мыслей. Вытерпишь – сбросишь. И я вытерпел. И уже не так горят мнимые раны на спине, в которые Художник заставлял меня верить. Гораздо сильнее горит рана в сердце, о которой я однажды приказал себе забыть, которую давно забыл, и по которой эта тварь полоснула.
Я прыгаю вперед. Кулаки раз за разом находят цель, и с каждым ударом я кричу. Это не слова, я не утруждаю себя словами. Это вой, хриплый, срывающийся, то низкий, то высокий, идущий откуда-то изнутри грудной клетки, рвущий горло. Собираю пальцы в китайский нож. Теперь пришло время терпеть ему. За Катюшку, за ребят под домиком, за Хромого. За то, что лезет эта тварь восьмиголовая в чужой мир, за то, что сапоги с восьми ног не снимает, за то, что обозвалась Полынью, а это моя любимая трава, мой любимый запах. В отличие от обычного кулака указательные пальцы в китайском ноже пронзают плоть Художника. Еще и еще. Из проткнутой туши толчками бьет жидкость, пахнущая помойкой. Еще и еще. Пока туша не валится на меня. Пока я не валюсь на землю, поднимаюсь и с трудом заставляю себя сесть. Тело дрожит. По лицу что-то течет, по глазам, по щекам. Думаю, это не слезы. Я ведь никогда не плачу.
Нащупываю траву, рву изрядный клок и вытираю лицо. Во дела – полынь! Трава полынь. Горькая.
Дольше всего ждали Тибула; в тринадцатом классе уроков восемь, девять – это норма. Блажка лежала на траве, считала облака; а Сыча сидел, прислонившись спиной к тополю. За пивом он уже смотался; три жестяные банки «Классного» стояли на траве. Но пиво – не для питья, а чтобы от обычных школьников не отличаться.
Я тоже лежал. Мне вообще нравится лежать на земле; то прижиматься животом (так хорошо и спокойно); то вдруг переворачиваться на бок и смотреть туда, где опрокинутая земля сходится с небом.
Но сейчас я просто наблюдал за Блажкой, пытался понять, о чем она думает. Вернее, не накатило ли на нее очередное видение. Было бы интересно послушать… Иногда Блажка видела слова. Так она рассказывала. Но слова шли не по порядку, словно каждое из них торопилось первым попасться на глаза. Все перепутывалось, и понять что-то было нереально. Я бы не смог, наверное. И Блажка тоже не могла: если случалось видение, долго потом сидела, молчала, а глаза – пустые-пустые. Но через какое-то время (день, два, неделя) беспорядочные слова вдруг складывались в связные отрывки, и Блажка пересказывала их нам.
Одно время спорили: правда ли в этих рассказах или нет. Потом Тибул (тогда его звали иначе, но я подзабыл как) сказал, что все – правда, потому что он, Тибул, хотел бы жить в том мире, а если кто считает, что все – неправда, пусть идет на урок демократии. И еще Тибул сказал, что берет себе имя Тибул (в честь одного из тех героев), и все, кто с ним, будут его командой.
Я повернулся и увидел, как из школы выходит Тибул: возбужденный, с горящими глазами. Бухнулся рядом с нами, рассказал, что собирали в актовом зале старшие классы, что выступал приглашенный регулятор. Сначала все было как всегда, будто еще один урок демократии, а потом (тут Тибул сделал паузу и посмотрел на каждого из нас) стали говорить, что в городе появилась банда пионеров!
Сыча присвистнул, мы с Блажкой переглянулись. Тибул выставил правую руку ладонью кверху, и каждый, кроме меня, положил на его ладонь свою. Негромко прозвучало древнее заклинание: «Один для всех, и все для одного!»
Однако долго обсуждать не стали – на сегодня было одно дело… Подобрали пиво и пошли через дворы к заброшенной водонапорной башне. Когда проходили перекресток у клуба «Луна», встретили регулятора. Он стоял под огромным щитом, на котором был изображен указательный палец и надпись: «Учись делать выбор!». Регулятор постукивал жезлом по ладони, отчего щит казался еще строже… Но к нам было не подкопаться – идем с уроков, пьем пиво.
Регуляторский жезл напомнил мне историю, как Сыча, однажды спросил на уроке демократии: «Правда ли, что жезл у регуляторов не белый с черными полосками, а черный с белыми?». Так и выдал. Слава богу еще не спросил: «Что главнее: демократия или правда?». Но все равно его повели к директору, где стали выяснять: пьян ли он, или к регуляторам захотел. Хорошо, у Сычи хватило ума сказать, мол, к регуляторам не хочу, и правдоподобно при этом пошатнуться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





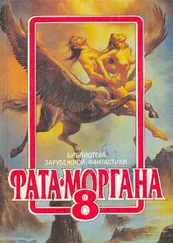
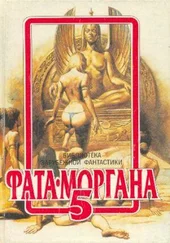

![Евдокия Нагродская - Невеста Анатоля [Фантастические рассказы]](/books/422910/evdokiya-nagrodskaya-nevesta-anatolya-fantasticheskie-thumb.webp)



