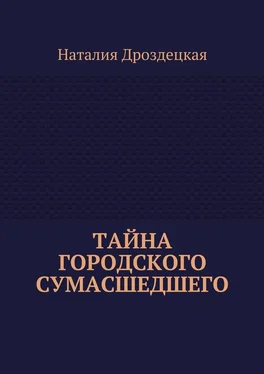Вернулись некоторые из участников пресс конференции с приехавшим в город президентом. Редактора с ними не было. До обеденного перерыва оставалось 40 минут. Правильно решив, что в ближайшие пару часов его не дождаться, Чарнакин засобирался уходить. Мы вместе с ним вышли из казённого здания, собравшего под своей крышей множество других офисов и предприятий, и пошли каждый по своим делам некоторое время вместе по тротуару, ведущему к центральному парку. Возле парка он встретил знакомого писателя, в некотором роде знаменитого по местным меркам, обрадовался ему, а со мной любезно раскланялся, не глядя в мои глаза (он почему-то никогда не смотрел прямо в лицо собеседнику, а косил по сторонам, словно конь из любимой его сельскохозяйственной темы). Всё же он мне нравился всё больше и больше, этот не от мира сего правдолюбец и борец за внедрение в жизнь чего-то такого, о чём никто никогда обычно не задумывается. Получается, нельзя судить о человеке по первым впечатлениям и крутить у виска сразу после того как он вывалит на тебя очередную свою теорию про необходимость наиболее глубоко демократизировать недодемократизированное в период активной демократизации общество.
Я ещё не понимала, насколько связаны все события, происходившие со мной после видения из трубы с самим этим видением. Но я её чувствовала, эту мистическую связь, невольно стараясь подчиняться предписываемой ею логике поведения. Вот этот Роман Стаблыкин, про которого я не знаю ровным счётом ничего, но о трагической смерти которого мне стало известно из сводок УВД буквально на следующий день после невозможным образом дымящейся трубы, он ведь из Тарак-Акана. Я там не была никогда, но отец частенько упоминал этот город в связи с приятными воспоминаниями о сравнительно молодых своих летах. Впрочем, если уж говорить о его молодости, то вся она прошла на войне да на послевоенной службе. На войну попал в 17-ть в 43-м, а вернулся в 26-ть в 52-м. Два года из девяти, изъятых у него насильственным образом воюющим государством, были посвящены непосредственно фронту. Эти два фронтовых года раскрасили потом яркой мозаикой воспоминаний всю его жизнь. В заунывных буднях непрерывного строительства коммунизма, в котором принимали участие все без исключения советские люди, случались и праздники. Праздники случались с завидной систематичностью и были такими широкими, что про них и можно было только сказать: «Гуляют все!» И вот когда все гуляли, и в Петербурге, и в Ремках, в нашем доме собирались гости. Ели, пили, как теперь не пьют и не едят. Потому что сохраняют здоровье и свою социальную перспективность. А тогда, в недалеко ещё ушедшем от войны времени, пережившие её люди навёрстывали упущенное. Прежде всего, ели и пили, за себя и за всех умерших от голода в тылу и от вражеской пули на передовой. Отец не погиб, хотя возможностей погибнуть на фронте у него было немало. Он рассказывал удивительные, фантастические прямо таки истории из военной жизни, где был радистом и киномехаником одновременно. В одну такую историю вообще невозможно было поверить, но именно её он и рассказывал чаще всех остальных, Как только захмелеет слегка от рюмки-другой сороковки, так и начинает её тут же рассказывать, как он минное поле на лошади, запряжённой в телегу, переехал. Взял, да и переехал потихоньку заминированное фашистами поле. И только когда выехал на обочину, заметил характерный колышек с флажком. Одновременно с этим увидел на том краю поля двух своих однополчан, сильно пьяных, весёлых и бравых. Они с песнями пёрлись уже по этому полю, буквально по следам только что проехавшей телеги. Отец закричал, завопил буквально: «Назад! Тут мины кругом, заминировано, мужики, назад!» Но те только ругнуться успели не зло напоследок: ты на лошади проехал, и мы ж не лыком шиты. И буквально враз, оба на одной мине, похоже, подорвались. Никаких останков от них, только пепел и дым. Однажды он вспомнил, как ему из ручья довелось напиться. Так пить захотел, что не мог оторваться от холодной ключевой водицы. Ещё во фляжку её набрал, пригодится в жару, что и говорить. Распрямился, утёрся и пошёл вверх по ручью, да тут же и остановился в оцепенении: увидел прямо в ручье, метров в пятнадцати от того места, где только что пил с наслаждением, труп немецкого солдата с простреленной головой, размозженной до самого её внутреннего содержания, почти без головы, можно сказать. Я не спросила тогда, что он с фляжкой сделал. Он её выкинул? А где другую взял? Или пользовался той же фляжкой до самого конца, привёз её потом с фронта и теперь именно она лежит в ящике нашего кухонного стола, та его фляжка? Я вообще не спрашивала его ни о чём, пока он был жив. А теперь не у кого спросить, а так бы хотелось. В первую очередь я спросила бы у него теперь, зачем он уехал из Тарак-Акана, если ему там так уж сильно нравилось? Он же туда уехал после окончания автомеханического техникума как молодой дипломированный специалист, фронтовик к тому же, особыми льготами как все фронтовики пользовавшийся. Ему там квартиру дали, в начальники поставили, оклад-жалованье назначили, подчинённый народ рыбой вяленой да копчёной угощал, в гости зазывал, на рыбалку, на охоту. Ему нравилось это всё, похоже, раз любил он про это всё вспоминать. Для чего же тогда уехал? Конечно, вряд ли он Стаблыкиных знал, и уж тем более того самого Стаблыкина, бесславно погибшего в нашей городской котельной, и панихида по которому в виде дымящихся букв из трубы пронеслась в моём то ли сознании, то ли воображении. Но если бы он рассказал подробно о каждом дне своего пребывания в Тарак-Акане, я бы, возможно, сумела найти в том его прошлом тянущиеся в наши дни параллели и связать их каким-нибудь образом со своей трубой. Но отец умер 10 лет назад и потому не может ничего рассказать. Вот и живи теперь с неразгаданной загадкой, о которой нельзя никому поведать, потому что обязательно у виска покрутят, если не сразу, то как только за угол отойдут.
Читать дальше