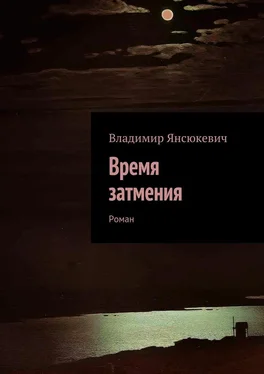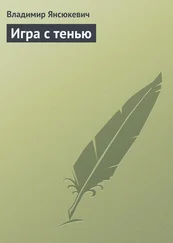При ней он позволял себе и покапризничать, и полениться, и пошалить. Бабка не имела привычки бранить или отчитывать. Просто, когда Данилкины шалости переходили границы, она вдруг менялась в лице: смуглое от природы, оно у неё светлело и становилось скорбным и величавым, как у Богородицы. И шалость мгновенно покидала Данилку, он простирал к бабке руки, с разбегу утыкался в её передник и горько плакал. А бабка гладила его по горячему затылку и приговаривала с улыбкой: «Вну-учек, боле-езный мой!». С дедом такое не проходило. Он выговаривал жене: «Потакаешь сорванцу! Драть его надо, как сидорову козу, а она вылизывает!». Нет, деда он тоже любил, только немножко побаивался. И этот глупый ребячий страх невольно шёл в минус любви.
К полудню сели обедать. И тут уж Данилка отпустил себя, дал волю аппетиту. Ел с такой прытью – за ушами трещало. Похлебал ухи, умял не один кусок пирога, сначала с рыбой, потом с капустой. Хватило места в животе и для пасхального кулича с мёдом. И покрыл всё это парным молоком – бабка у соседки разжилась, та свою корову держала. А наевшись под завязку, никак не мог отдышаться. И заблестел, зарумянился, как масленый колобок, даже глаза покраснели.
– Вот мельница! Всё умолол! Да на тебя не напасёшься, – брякнул дед.
– Сиди уж! – сердито махнула бабка.
– Ничего, с него не убудет! – ухмылялся дед. – Кто ест до отвалу, тот и работает не помалу.
Потом вздремнули часок. И снова за работу. А к ночи, у костерка, и побалагурить можно.
Высоко в ночном небе, разрезая пространство гулом двигателей, светляком проплывал воздушный корабль. А совсем рядом гудящими наплывами стучали на стыках проходящие поезда, и звук передавался по земле явственными толчками, как при землетрясении, под Данилкой даже позванивало немного – он сидел на опрокинутом цинковом ведре, покрытом для тепла и мягкости шерстяной вязаной шалью. Сверху на него была наброшена дедова телогрейка, а снизу придавил ноги набегавшийся за день Тараска. Данилке было тепло и уютно в мире. Даже Большая Медведица во все глаза пялилась из своей тёмной берлоги на белобрысую мальчишескую макушку – завидовала.
Дед восседал по другую сторону костра, на берёзовой колоде для колки дров. Дул своевольный майский ветерок, и временами Данилку овевал махорочный дурман, от которого покалывало в горле и чесалось в носу – дед дымил цигаркой, свёрнутой дудочкой из газеты, и говорил, говорил, обстоятельно расставляя слова, будто деревья рассаживал. Не в пример искрам, брызжущим из костра беспорядочным фейерверком, каждое дедово слово звучало по-своему вразумительно, всякому было своё место. Время от времени он теребил почернелой жердиной затухающие головешки и подбрасывал в жаровню кострища припасённые для розжига чурки, возрождал огонь. И огонь, вспыхнув с новой силой, благодарно веселился в прищуренных дедовых глазах, укрытых под мохнатыми козырьками бровей, льнул к жилистым рукам, лизал красными всполохами скуластое лицо, пробегал озорными искрами по растопыренным усищам, всклокоченной бороде и вздыбленной шевелюре. И всё дедово обличье, грозное и, в то же время, проказливое, чудилось Данилке сказочным божеством, выскочившим на минутку из лесного царства, чтоб ухватить людского тепла. Данилка замирал от восторга и пронизывающей душу оторопи. Когда дед умолкал, он снова сыпал вопросами, и деду приходилось отвечать. Много в тот вечер Данилка услышал и про лес, и про войну, и про звёзды…
Бабка постлала внучку, как всегда, в задней комнатке, окном в сад, на большой железной кровати с круглыми блестящими набалдашниками на спинках. Пуховая перина обняла Данилку райским облаком. Чистая простыня, только что снятая бабкой с верёвки и чуть влажная от росы, пахла хвоей и дымом. От натопленной печи исходил томящий жар. Тело Данилки свербело от усталости, он долго не мог заснуть, всё ворочался с непривычки – поезда не давали, да ещё гремела кастрюлями бабка, да где-то поблизости щёлкал затвором дед, наверное, карабин чистил. Потом всё смолкло, и полоска под дверью погасла. Значит, улеглись. Голова у Данилки поплыла, глаза подёрнулись сладкой дремотой… И тут под окном забрехал Тараска, утробно, с подвыванием. Данилка слышал, как дед, чертыхнувшись, вышел наружу, цыкнул на кобеля. Зазвякала цепь, видно, привязал. Потом вернулся, пробасил что-то. Тяжко вздохнула бабка. Данилке было жарко, он откинул тяжёлое ватное одеяло и смотрел в окно на множество мерцающих точек в гигантском круговороте Вечности…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу