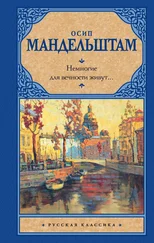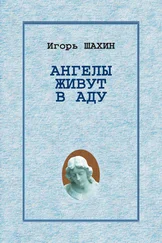На стене, как раз за его спиной, висел ее портрет. Он написал его по памяти давно, сразу после первого расставания, а потом уж, когда стал знаменитым, повесил в этом кафе. Хозяин любил его картины и его любил видеть, а он любил приходить сюда.
И так длилось уже много лет, несмотря на дерьмовое время, которое не берегло память о прошлом. Но это место не менялось. Зимин думал, что это было из-за картины. На ней тоненькая девочка стояла под грибным дождем, в облепившем ее до самой последней косточки тонком платье, и смеялась, не отрывая взгляда от любого, кто начинал смотреть на нее.
– Так ты любил меня?
– Почему в прошедшем времени?
– Почему молчал?
– Разве нужно иначе?
– Да, конечно.
– Тогда, значит, не нужно.
– А я не знала.
– Посиди вот так пять минут, ладно? – И быстро сделал ее набросок на обратной стороне меню.
– Приходи сюда, когда сможешь, хорошо?
– Хорошо. – Может, как раз он и был ей нужен, но искала она среди смелых.
Потом она попрощалась и ушла, как всегда, не оглядываясь.
А вечером он узнал о страшной аварии на Ленинском. Какой-то отставной кагэбэшный генерал вылетел с осевой при обгоне и раздавил машину с двумя женщинами.
Зимина словно ударило. Он точно знал, что это случилось именно с ней, словно его рисунок присвоил ее душу.
На похороны пришел после всех и долго стоял возле двойной фотографии – мамы и дочки, которая была похожа на его Ксюшу, словно две капли.
Крики и смех за окнами медленно удалялись куда-то в глубь бульваров, гулко отражаясь от стен сонных домов. До зари было еще долго, но разглядеть звезды на небе, замазанном отсветами от вывесок, фонарей и подсветки домов, Зимину никогда не удавалось. Он теперь часто поднимался до рассвета, вроде бы к чему-то готовый, и подолгу разглядывал ночной город. Мастерская была так удачно расположена, что за окнами можно было увидеть две Москвы – с одной, дворовой стороны, была почти что саврасовская картинка, та, что про прилетевших грачей, – графика множества темных стволов тополей и грабов, а под ними, усеянные пятнами ржавчины, крыши, укрытые старой, давно не менявшейся жестью, и охристого цвета трехэтажные дома чьей-то городской усадьбы. С противоположной стороны окна выходили в мощенный плиткой, почти европейский переулок – в Цюрихе, скажем, можно много найти таких же уголков – прямо на фасад какого-то банка, раскрашенный подсветкой в абсурдистские сине-розовые цвета.
На самом деле, когда ночью видишь множество темных окон в спящих домах, невольно начинаешь спрашивать себя, для кого горит в городе свет. Каким таким подслеповатым путникам в ночи освещает дорогу? И если мысль эту совсем довести до абсурда, тогда что вообще значит этот ночной праздник света, если мы – дневные животные?
Ноги снова стали зябнуть, и Зимин плеснул в стакан согревающей ноги и душу жидкости и отправился к портрету Ксении. После всего, что случилось, он никак не мог его закончить и все откладывал до каких-то лучших времен.
Огромный рекламный экран на соседней крыше, без устали требовавший что-нибудь купить, отбрасывал электронные отсветы на картину. Может, из-за этого ее глаза, смотревшие сквозь сетку карандашных линий, казались совсем живыми.
«C тобой что-то происходит?» – могла бы спросить она.
«Почему ты так думаешь?» – ответил бы он.
«Выпиваешь, и так рано – что тебя мучает?»
«Тоскую, наверное».
«Совсем не изменился. Только волосы седые. Капли на них не действуют?»
«Ты откуда про них знаешь?»
«Ну, ты и смешной».
«Страшно умирать?»
«Нет, жалко».
«Себя?»
«Кого любишь. Ты еще можешь успеть».
«Думаешь?»
«Знаю».
Часа через три Зимин проснулся от глухого стука в стену. Уже давно любой посторонний звук, вмешиваясь в сон, выключал его мгновенно. Сначала он воткнул голову в подушку, пытаясь приспособиться, но звук не отставал – переходил с железного ритма рока на джазовые синкопы или вовсе впадал в дикую лихорадку отбойного молотка. Когда устал ворочаться, вдруг понял, что у соседа Жоры кончился запой.
Жора был скульптором и страстно ненавидел Эрнста Незнамова. Почему-то считал, что знаменитость присвоила его творческую манеру, а следовательно – деньги и славу. Поэтому Жора периодически запивал – обычно сразу после получения аванса на изготовление скульптурного бюста от очередного мечтавшего оставить свое изображение в вечности. Когда деньги кончались, у Жоры начинался гон, и занимался он этим так же истово, как и пил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу








![Анатолий Тихомиров - Ангелы света [СИ]](/books/408177/anatolij-tihomirov-angely-sveta-si-thumb.webp)