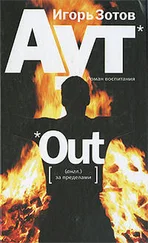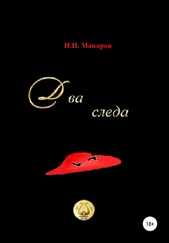Столь необычное происшествие просто обязывало нас выйти из комнаты, и в течение следующих нескольких дней, невольно и повсюду искать с ней встречи. А ровно через неделю, как будто следуя тщательно продуманному и заранее составленному расписанию, она отыскалась сама, пробравшись в нашу комнату через открытое окно. Хотя дверь в палаты никогда не запиралась, лазить через окно, деловито пояснила нам Лизи, всё-таки намного интереснее и проще. Ограничившись краткой иллюстрацией своих возможностей, она немедленно уселась на нашу кровать, достала свои тетради и блокноты и принялась демонстрировать свои рисунки. Сначала молча, – просто протягивая нам листки бумаги, – так поступает порой ребёнок со своим безмолвным отражением, потом объяснила: «Не все, наверное, знают о том, что с детства я немного рисую… Здесь вы вдвоём, а вот на этом рисунке я стою между вами». Так постепенно выяснилось, что рисунков с двумя сросшимися девочками в её коллекции неожиданно много, а ведь она рисовала разных людей: воспитателей, прохожих, врачей, иногда мёртвых птиц или животных. На одном из рисунков ты была выше ростом и крупнее меня чуть ли не вдвое, на другом – был изображён наш общий портрет с разноцветными лицами: моё – розового цвета, твоё – синего. На некоторых рисунках мы представлялись уродливее, чем есть на самом деле, на других – гораздо красивее; мы скрещивались и растягивались, уплотнялись и расширялись; я обладала нелепыми бородой и усами, а твоё квадратное лицо озарялось треугольной улыбкой. Иногда она склеивала нас спинами так, что мы никогда не увидели бы друг друга, а порой – плечами, в этом случае я располагала только левой рукой, а ты – правой. Хотя на самом деле у нас две руки и две ноги, а сросшиеся мы только в области бёдер. Но Лизи смотрела на мир другими глазами, соединяя неповторимое с непохожим на свой необычный лад. На одном из рисунков, который мне особенно понравился, мы собирали полевые цветы. Это было прекрасно. Просто – загляденье: красивые роскошные платья устилали землю, головы «свалены» в разные стороны, как у скачущих галопом пристяжных, распущенные волосы вились волнами, а прекрасные бездонные глаза выражали мудрость и печаль. А вот другой рисунок, выдававший нашу наготу, смутил меня до крайней растерянности. Не стесняясь, Лизи пририсовала нам большую грудь, – точнее четыре груди, ни одной из которых не было и в помине, – а наши ноги, руки, живот, впрочем, как и всё остальное тело были бессовестно обнажены. Это восхваление воображаемой красоты я восприняла как укор за наличествующее уродство. Тебе же, напротив, рисунок понравился; ты долго таращилась на фальшивые тела и в конечном итоге манерно спросила: «А ты могла бы нарисовать нас по отдельности»? Сначала она от всей души посмеялась, потом вытащила из пачки сигарету и торопливо, жадно закурила. «Глупые девчонки, вы ничего не смыслите в жизни. Вся суть в том, что вы не такие, как все, просто вылитые негожихи ! – лично я до сих пор не понимаю, что именно имелось в виду. – Побудьте хотя бы на моих рисунках самими собой. Я уверена, вам это понравится».
«Пребывание в таком заведении, как этот пансионат – есть предел мечтаний любого художника. Что это, если не маленький творческий рай для немногих избранных, в котором позволительно предаваться любым безрассудствам, только бы это не тревожило медперсонал и не слишком смущало окружающих! – сказала она, вытаскивая новую сигарету, как вдруг остановилась на полпути, будто бы сомневаясь в истинности собственных слов, и с вызовом добавила: – Будь моя воля, я бы всех художников поместила в специальные заведения закрытого типа, вроде этого, дабы отделить существенное от несущественного, главное от второстепенного». Тогда я набралась смелости и спросила, ради чего нужно рисовать и зачем. «А действительно, зачем? – воскликнула она, немного причмокивая, будто пробуя слова на вкус. – Должен же быть хоть какой-то способ реагировать на действительность… или, думаешь, не должен? – Я лишь неопределённо пожала плечами, всё больше начиная жалеть о заданном вопросе. – Словами не выразить всю гамму чувств. Да и вряд ли взрослые, чьи мысли и поступки непременно верны, станут меня слушать, – упрямо продолжила не взрослеющая Лизи, – ведь я не облачена – для пущей важности – в белый халат , плотно облегающий высокую грудь, узкую талию и крутые бедра. Непоколебимые в своей правоте, они не устанут причинять тебе боль, делая вид, будто ничего не понимают. И ведь невдомёк им, убогим, что они действительно ничего не понимают, ибо без главного понимания – зачем люди пишут книги, сочиняют стихи, рисуют картины – не понять и всего остального! Пусть мои рисунки не соответствуют действительности – формам, контурам, цветам – пусть я заведомо „лгу людям“, зато эта ложь является единственно возможной правдой для меня, другой я не знаю, не зала и не узнаю. Жаль только, что мои родители, самые близкие люди, меня совсем не понимают. Они – единственные, кого я бы не стала рисовать, и не потому, что сержусь на них, просто они мне неинтересны. Сгинуло прочь скоротечное лето, пожухли краски их молодости, и наступила тягучая осень… они давно уже не люди, лишь сборник правил, законов и предрассудков – безликие тени в мутно-серой столовой жизни, смиренно довольствующиеся едой и питьём. Хочешь знать причину, почему я рисую? Так я лучше чувствую мир людей, осязаю его боль или радость, восхищаюсь окружающей меня красотой. Именно через рисунки я признаюсь миру в любви. А знаете что? – воскликнула она, выплёскивая через край последние эмоции: – Всё-таки я куплю себе белый халат, уже очень скоро, – когда постарею и пойду к палачу!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу