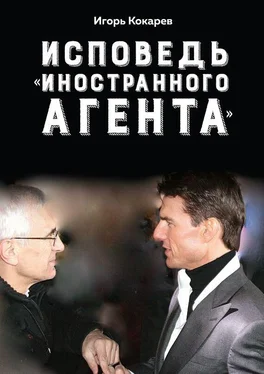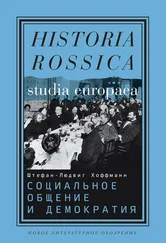Другой мой друг, Игорь Кириченко, не обременялся нашими сомнениями. Он уже знал, что будет химиком, и в этом было его счастье. Станет профессором одесского университета, будет преподавать в Алжире на французском, потом снова мирно жить в Одессе и преподавать в родном университете. Передаст кафедру своей ученой дочери, тоже химику, будет любоваться рослым, красивым и умным внуком, получит, наконец, от своего университета квартиру в элитном доме на высоком берегу Отрады, въедет в нее и знойным летом, войдя в те же волны, что и 70 лет назад, умрет от разрыва сердца… Какая прекрасная жизнь.
Во времена нашей юности Одесса была русским городом с еврейско – украинским акцентом. Порто-франко в каком-то духовном смысле. Нормальные люди общались цитатами из «Двенадцати стульев», хотя книги официально не существовало. Остапом Бендером вошла в сознание эпоха НЭПа, оставив за скобками кровавые роды советской власти. А нынешнее время форматировал Жванецкий. Миша видел мир глазами застенчивого интеллигента, рассказывающего, как пройти на Дерибасовскую, пожимающего плечами на того полковника в отставке, что выращивал на даче ранние овощи для Привоза, удивлявшегося глупому доценту, которого довел до бешенства прямодушный студент Авас. Миша вносил свою лепту в нашу речь, помогая сохранять рассудок.
Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им нежились, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное рано или поздно растворяется без следа. А осмыслить означает найти слова.
…Помню в моих руках страшные тексты. Смятые, затертые страницы дневника недавно реабилитированного политзаключенного, друга моего отца, написанные им «там», урывками и тайком. На нашей маленькой даче в полдомика на 13-й станции Большого фонтана передо мной сидел изрезанный не то морщинами, не то шрамами сломленный человек и вяло рассказывал немыслимое. В 37-м он занимал высокий пост председателя Баскомфлота, профсоюза моряков. Его вызвали в Москву и взяли прямо в кабинете Берии, после дружеских объятий красного наркома. И для начала профессионально избили. Ни за что.
Я был потрясен прочитанным. Я только спросил его:
– Вы не хотите отомстить своим мучителям?
Он посмотрел на меня печальными, мертвыми глазами:
– Отомстить? Молодой человек, у меня сил осталось только дышать.
Тогда я не понял его. Только что разоблачен культ личности, возвращены невиновные. Как можно позволить палачам остаться безнаказанными, не раскаявшимися? И палачи, и вертухаи, и стукачи… Пока они затаились и крепко держатся за старое, ищут в нем себе оправдание. А жертвы? Я переспросил папиного друга:
– Значит, вы им простили?
– Нет, не так. Я знал: раз посадили, значит, партии так нужно. А где умирать за дело партии, в бою или в лагере, это не важно. Я, значит, был нужен ей там.
В этой логике безропотного жертвоприношения было что-то темное, запредельное. Принять арест, тюрьму и лагерь, потому что это нужно партии? Ослепленные новой верой фанатики? Так их и казнили в первую очередь. Мы были уже другими. А отец? Помню, когда его, старшего механика Черноморского пароходства, всю жизнь утюжившего моря и океаны, партия вдруг бросила на подъем сельского хозяйства в Молдавию, он тоже безропотно подчинился. Конечно, это не лагерь и не допросы с пристрастием. Директор машино-тракторной станции в Молдавии в Дубоссарах ремонтировал комбайны вместо судовых двигателей. За что получил орден Трудового Красного знамени. Он тоже не задавал вопросов… А я? И я ведь туда же! По призыву комсомола с флота в степи казахские на комсомольскую стройку. Добровольно! С энтузиазмом!
– Идиот, – думала команда судна, с которого я сходил на берег, чтобы не вернуться.
– Романтики, – писали в газетах.
Но добровольцы 41-го меня поймут. Правда, они не вернутся из боя. А я еще вернусь…
«Философия истории» Гегеля – книга из списка для обязательного чтения. «Свобода как осознанная необходимость», почерпнутая оттуда, казалась приговором. Она вела в моем сознании как раз к ним, принявшим пытки и лагеря как служение партии. От Гегеля осталось еще и понимание истории как необратимого прогресса, как развития – вперед и выше. Что после нас, то и лучше. Об этом говорил и технический прогресс.
О том, что человеческая история виляет, заходит и в тупики, бредет в потемках, поворачивает вспять и может вообще идти к самоуничтожению, я узнаю позже. Пока душа искала применения. Огарев и Герцен когда-то на Воробьевых горах дали клятву «пожертвовать жизнью на избранную нами борьбу…» Где моя борьба? Еще не ведал, но быт, семья, уют, благополучие уже не стоили того, чтобы потратить на них жизнь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу