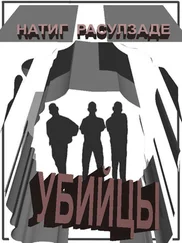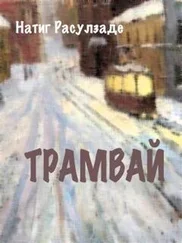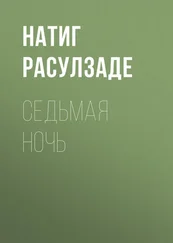– Отдохну полчасика и за работу! – он энергично потер руки, будто хотел внушить себе, что соскучился по работе, и вот сейчас, наконец-то, когда все второстепенное, не столь важное позади, он… И жест, и фраза получились неестественными. Он хотел сгладить это впечатление фальши, добавить что-то…
– Ну иди, – сказала она. – Я посплю.
Он пошел к двери и уже, взявшись за ручку, собирался выходить, когда она окликнула его. Он удивился, обернулся.
– Давно хотела спросить, – произнесла она, чуть растягивая слова, как бы через силу.
Он выжидательно, несколько озадаченно смотрел на нее, не вторгаясь в затянувшуюся паузу.
– Ты теперь так многого достиг, – сказала она с придыханием, словно чуть-чуть задыхаясь, и ей требовалась передышка после каждой фразы.
Ему после этих ее слов захотелось по новоприобретенной привычке затрясти головой, покряхтеть, притвориться старым и немощным, но вовремя опомнился – перед женой, которая знает его вдоль и поперек, было бы смешно так себя вести.
– Скажи, – с усилием произнесла она. – Ты бы отдал все это за то, чтобы сейчас наш мальчик был с нами?
Вопрос застал его врасплох, ошеломил своей оголенностью его, привыкшего к хитроумным, каверзным вопросам подходить издалека и отвечать не по существу, если существо это хоть как-то нельзя было трогать. Но хорошо развитая интуиция мгновенно сработала, подсказав, что медлить с ответом опасно.
– Конечно, – сказал он твердо. – Ты еще спрашиваешь?
– Хорошо, – сказала она, ничего не выразив ни в тоне, ни в лице, – иди.
И он вышел, плотно притворив за собой дверь спальни.
В кабинете он стал рыться в своих давних записях, черновиках, просматривал записанные впрок сюжеты, наброски, зафиксированные на бумаге идеи – было много слабого, незрелого, жидковатого, но были и интересные задумки, над которыми стоило бы поработать. Однако просматривал он бумаги рассеянно и чем больше, тем все более и более рассеянно. Он придвинул к себе чистые листы, постарался сосредоточиться и через минуту уже писал, еще не зная, что из этого получится.
«Перешагнув через порог тюремного двора, выйдя на волю, Таривердиев задрал голову к небу, улыбаясь, щурясь на яркое солнце, и подумал: «Здесь небо совсем другое».
Какое-то время он машинально продолжал писать о герое, о его поступках: куда он направлялся после многолетней отсидки, за что сидел, и уже вырисовывался образ, уже показывал головку, как ребенок из чрева матери, рассказ или другое что-то, может, и повесть, если посчастливится; и он уже почти был захвачен тем, что писал, и его Таривердиев в своих поступках, помыслах, словах постепенно, буквально на глазах оживал, становился все более живым, даже интересно-живым, и уже вел за собой своего создателя, противился ему, когда тот хотел навязать Таривердиеву фальшь, не ложившиеся в характер поступки; уже забилось, как прежде бывало – когда же это было? – сердце писателя Манафова, облилось горячей волной в предчувствии, что сейчас, наверное, он положит начало новой вещи и, кто знает, может целую неделю, или даже месяц он с упоением станет работать над ней, позабыв обо всем на свете, потому как, что же может сравниться с восторгом творческого созидания?! Уже, уже, уже… когда вдруг одна страшная, кощунственная мысль затрезвонила, взорвалась в его мозгу, расшвыряв убийственные осколки, ранившие сердце, душу…
«Что ж, – сверлила мысль, продолжая причинять нестерпимую боль, – ты выжал из смерти сына все, что мог, ты достиг всего благодаря смерти сына, ты бы так и оставался одним из многих писателей, которых никто, кроме жен, не читает, если бы не смерть твоего сына…»
«Но ведь это не я, не я! – яростно стал отбиваться он, другая его часть, – судьба, судьба так… устроила… распорядилась».
«Это тебя не оправдывает, – безжалостно продолжал голос в его голове, – ты… все, что мог… все, что мог из смерти сына…»
Манафов схватился за голову, отшвырнул от себя ручку, смахнул со стола исписанные листы и сидел так неподвижно несколько минут, тяжело дыша. Почему, почему она меня спросила об этом?! Почему этот вопрос? – думал он. – Что же это?.. Зачем она так? Я уже успокоился давно, я был спокоен, рана моя заживала, но почему она так спросила? Боже мой… Да, смерть сына послужила толчком, перевернула всю его жизнь, он стал иначе на все смотреть, он переосмыслил все вокруг – друзей, любовь, работу, призвание, близких, жизнь и смерть, и себя тоже, свое существование, он стал писать по-другому, не как прежде, но ведь все это не означает, что… Разве было бы лучше, если б они жили, как раньше, если б он бездействовал и, подобно ей, только утопал в собственном бессилии и горе? Было бы лучше, если б они прозябали, жили бы недостойной жизнью, презираемые богатыми ничтожествами, разве если б он ничего не добился, было бы лучше? Зачем она так сказала, она перевернула его, вывернула наизнанку, убила этим вопросом. Надо же было ей именно это спросить: ты бы отдал все за то, чтобы наш мальчик вернулся? Боже мой, разве это возможно? И разве была такая договоренность – ты отнимаешь у меня сына и взамен даешь… Нет, нет, тогда бы я ни за что… Что я говорю, что я говорю, боже, прости мои мысли, у меня в голове помутилось, в голове… Разве может быть с Богом такая договоренность, это только черту, только черту годится такое, только сатана… это дьявольские дела… Прости меня, боже… Что я подумал – ты отнимаешь у меня сына, а взамен… Нет, нет, тогда и мысли такой, даже тени подобной мысли не могло быть…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу