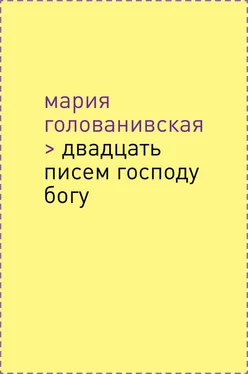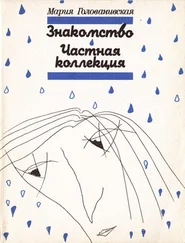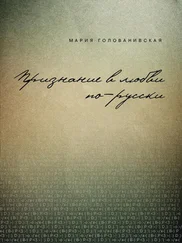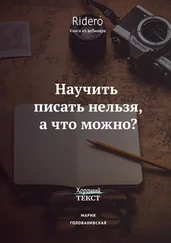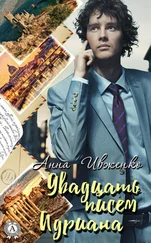Она столь же стремительно уехала на другой конец света, оторвавшись от него пространственно и даже загадочным образом во времени, отставая на добрую половину суток и находясь по отношению к нему почти всегда «вчера». Она жила у какой-то своей подруги, деля с ней, как он подозревал, не только кров, но и постель, ездила на велосипеде, лопала сэндвичи, перешла, он был уверен в этом, на любимый «золотой» Winston, довела до совершенства свой и так всегда бывший элегантно-провоцирующим облик: узкие, как у мальчика, бедра теперь подчеркивались джинсами «нужной» модели, а маечка была «нужного» цвета и с «правильным» вырезом.
А потом появился и «умопомрачительный» костюм – это когда уже была первая работа в библиотеке – который делал из нее, высокой, смуглой, вызывающе коротко стриженной, с алым, как рана, ртом, настоящую секс-бомбу. И результат не замедлил сказаться: она нашла, соблазнила, увела (немыслимо!), вышла замуж и переехала сюда, в Европу, в город, о котором она мечтала всю жизнь.
Их завтраки, обеды и ужины призваны были имитировать нормальное течение жизни. Для него они становились все более и более символическими. Ему казалось, что пища приближала его конец. Но он для поддержания общения съедал по ложке всего, и Марта делала вид, убирая со стола, что не замечает его почти нетронутых тарелок. Они разговаривали мало. В самом начале они осторожно разглядывали друг друга, он понимал все, что видел, но эмоций не чувствовал, боль и болезнь убили почти все эмоции, направленные на внешний мир. Он даже почти уже не переживал то зрелище, которое представлял сам.
В начале болезни он часами проводил время у зеркала. С каким-то даже странным сладострастием он подмечал и периодически инвентаризировал все с поразительной быстротой нарастающие черты деградации и умирания. Теперь же, когда все говорило о скорой развязке, он совершенно потерял интерес к своей внешности, только время от времени разглядывал свою полупрозрачную руку, протягивая ее навстречу солнечным лучам. Почему-то охотнее он выбирал для этой цели именно закатное солнце, и каждый раз констатировал, тщетно пытаясь вспомнить название некогда обожаемого им романа, где как раз это качество ставилось главному герою в заслугу и отличало его от всех прочих обитателей созданного писателем мира: прозрачность. Так вот: он был прозрачен, проницаем, легок, как воздух, как стекло, как мысль младенца.
Его звали Ласточка.
Между ним и Мартой неясностей не было: она вытащила его сюда умирать, потому что здесь умирать комфортнее.
Может быть, в этом жесте была ее месть.
Может быть, это просто факт общей с ней биографии.
Она сняла для него эту квартиру, она научилась быть медсестрой, она рассказала мужу историю об умирающей подруге детства, она – зритель и участник драмы, которая, возможно, нисколько и не трогает ее.
Мотивы безразличны.
Так случилось, что они вместе ждут, и ждут одного и того же.
Вот он идет по лесу, держа за руку Ингрид, а сзади идет Марта, почему-то блондинка, и ужасно хохочет. «Ингрид прекрасно говорит по-русски, – говорит он, оглядываясь, Марте. – Вот посмотри, ее письма ко мне написаны как будто бы русской, хотя у нее в роду никогда не было русских, все истинные арийцы». После этих слов Марта начинает хохотать еще громче.
Ветки мешают идти, и он отодвигает их в сторону левой рукой, потому что правой обнимает Ингрид.
«Слишком яркое для осени освещение, – мелькает у него в голове, – и румянец на щеках Ингрид сияет ярче солнца». Лес редеет, Марта превращается в огромную птицу и, хлопая мощными крыльями у них над головами, устремляется назад, в чащу, из которой они выбрались с таким трудом. О чем они, эти больные сны? Последний взгляд через плечо, прощальная вибрация нейронов, которая вместе с воспоминаниями колышет еще черт знает сколько мусора. Но зачем, к чему?
Внезапно они все трое оказываются в городе грязных зеркал, где у каждого здания неотличимый двойник, покачивающийся в мутных и зловонных зеленоватых водах. Они гуляют по узким улочкам с затхлым запахом, и истоптанные как сандалии дорожки сплошь испещрены указателями: «на Сан-Марко», «к Риальто»… Запах залежалого белья сменяется ароматами курений и ладана, и постоянно оказывается перед глазами деревянный истекающий кровью-краской Христос.
На одном из искрящихся золотых куполов опоясывающая надпись: «Распяв человека, приковав его к координатам времени и пространства, времени, проходящего на цыпочках, времени тихого, незаметного хозяина-гостя, и уносящего, словно пчела, нектар жизни, и пространства навязчивого, грубого, непреодолимого, насилующего, ты обрек несчастное, созданное тобою же существо, в особенности еще и тем, что лишил его какой бы то ни было цели, а потому и осмысленности, а потому и опоры, на мучения, рядом с которыми муки Христовы – детская забава».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу