Владимир Маканин
Удавшийся рассказ о любви (сборник)
Мать и отец, именно что слившиеся, ничем особенным и рознящим в детстве ему не запомнились; очерчиваясь, они лишь много позже разделились как люди, приобретя в его глазах и судьбу, и свои лица. Но позже было всякое, в детстве же он чуть ли не путал их, хотя, конечно, не путал. Атмосфера безындивидуальности родителей, обыденной неразличимости их была характерна, привычна, и, кажется, родители только и делали, что работали: возможно, там у них и была своя жизнь. Он же был с младшими братьями, потом он был на улице, потом он был в школе – где и с кем угодно, но только он не был с ними, приходящими с работы поздно, наскоро ужинающими и уходящими утром так рано, что он их не видел. К тому же отец и мать не только не спорили на рознящие их темы, на кровные, скажем, они вообще мало спорили, оттого-то бабки, бабушки и были ему удивительны, а в память запали – разностью.
* * *
Как тихий стук швейной машинки в угловой дальней комнате и как крыльцо барака с железными скобами, о которые при входе очищают ботинки, мать и отец не замечались, как не замечались и прочие. Из всех взрослых в бараке выделялась разве что Нина Федоровна, которая, когда удавалось, хватала за ухо и, выкручивая, вела к окну, чтобы в полутемном бараке лучше видеть и лучше оценить мальчишеский испуг. Там только, у окна, она давала волю рукам. Оправдываться было бесполезно, да и попросту не нужно: царило еще и неразличение среди всеобщей бытовой безындивидуальности, и временами (задним числом) казалось, что одинаковость лиц и речей входила в маленького Ключарева с неким умыслом. Жесткость поступков, стычки в бараке и сшибки, а затем бурные же примирения – вся эта честная однообразность лиц и дел заполняла пространство именно как воздух, не было и намека на затаенные или на скрытные отношения , которые чуть позже так особенно пленяли его в бабушках. (В бараке, казалось, было важным одно-единое отношение: мужчина – женщина.) «Кто-оо-оо?!» Леденящий крик застиг его в комнате, и он, склонившийся над украденным коробком спичек, застыл, – значения не имело, что не он влез рукой в банку (!) с сахаром, так как сейчас послышатся бухающие шаги Нины Федоровны, костлявой и худой работницы, высосанной заводом и четырьмя собственными детьми, и от шагов ее не уйти, а ожидание шагов было хуже самой расправы. «Кто-ооо?!» – висел, натягиваясь на гневе, крик в бараке, и в отсутствие родителей застигнутые мальчишки за перегородками одинаково замирали. После расправы ему становилось куда легче, и чувство облегчения, кстати, тоже было у всех одинаковым. Но отчего же не так в деревне?
Если в деревне был простор, то возле бараков тоже ведь были пустыри, и притом пустыри с огромным размахом и без единого дерева, а на пустырях взлетали птицы, крупные, подчеркивающие в перспективе даль, а за пустырями были в заметном уже отдалении горы, наползающие одна на одну, но не давящие. Да и в самой избе ненамного просторней, чем в бараке: сени загромождены кадками и примитивным верстаком, оставшимся еще от прадеда, не говоря уж о догнивающих хомутах и старом тряпье, с которым в избах не расстаются. Люди! – вот оно. Его осенило не взрослого, а в детстве и сразу, и если растолковать он пока не мог, то слово найденное уже знал, люди , их-то именно и было много, на квадратный метр много, – тут-то и таился почувствованный им феномен одинаковости, который понял он уже, конечно, не в детстве: люди, живущие в бараке, и не могли быть разными или слишком отличающимися при такой густоте на квадратный метр, они бы не выжили, как не выживают деревья и целые подлески. Чтобы выстояли и выжили, деревья надо, даже и необходимо, прореживать, а людей необязательно – почему? – а потому, что с людьми само собой происходит нечто, в силу чего они уплотняются незаметным, невидным образом, и прореживать их не надо: живут. «Кто-ооо?» – кричала Нина Федоровна, и в самом вопросе был, как водится, ответ – кто-то; неважно кто; уже в детстве каждый мог сделать и каждый мог не сделать. Одинаковость – это и было прореживание в людях, это и было платой за тесноту, и, поскольку люди жили и жить могли, можно было наперед быть уверенным, что каждым из живущих плата наверняка внесена, где больше и где меньше – уже личное, уже не суть.
Он не раз слышал, а помнил и посейчас, как человека, откуда-то приехавшего (из деревни ли, из другого ли города: из другого сорта тесноты), спрашивали: «Ну как там?» – и улыбались.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
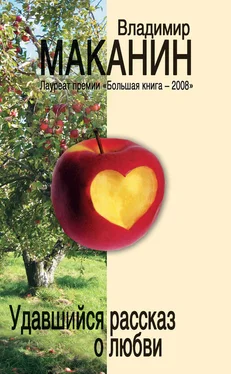

![Владимир Маканин - Ночь… Запятая… Ночь… [сборник]](/books/28298/vladimir-makanin-noch-zapyataya-noch-sbornik-thumb.webp)









