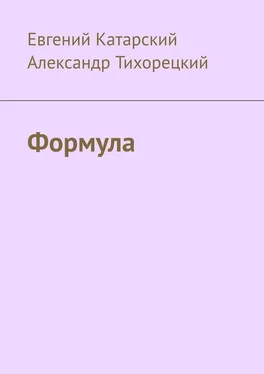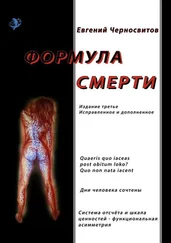Иногда Бельскому кажется, что вся эта дисциплина, субординация —неуклюжая экстраполяция детства, продолжение игры в войну, только мальчишки уже выросли, игрушечные пистолеты и автоматы сменились настоящими, а правила игры стали жестче, суровее. Теперь убитые не воскресают где-нибудь в сторонке, вызывая праведное возмущение противной стороны, теперь их хоронят, —будто прячут, отправляют куда-то далеко, в непонятные, обезличенные места, откуда они больше не возвращаются. И эти похороны, и все, что следует за ними —криз горя, мораторий на воспоминания, —будто часть ритуала-постановки, роли, сыгранные правдиво и натурально. Но все равно не верится в реальность происходящего, кажется, погибшие живы, вот-вот появятся, он вновь увидит их лица, услышит их голоса. И все мысли, рожденные этой новой, отрешенно-иллюзорной реальностью, слоятся, складываются в несмелую и неловкую надежду, во что-то наподобие бессознательного заигрывания с рассудком, балансирования на грани здравого смысла и фантазии. Вся жизнь, все слова и поступки представляются лишь долгим спектаклем, чем-то вроде вынужденного, затянувшегося кастинга; обстоятельства раздают людям их роли, и люди вживаются, играют, стараются. И чем лучше и искуснее они это делают, тем больше у них шансов быть успешными, заслужить любовь и уважение окружающих; в этой парадигме соответствие чужим ожиданиям и представлениям —кратчайший путь к гармонии с внешним миром.
И он, и Мамаев —не исключение, каждый получил и исполняет свою роль. Один —строгого начальника, второй —подчиненного; и они оба знают об этом, и все вокруг —тоже знают, и тоже играют и подыгрывают, и ничего здесь уже не поделаешь, —однажды приняв правила, мы уже не в силах отказаться, изменить что-либо.
И война внесла коррективы в эту конструкцию, выправила и отредактировала, подправила-подчистила; близость смерти наложила отпечаток, напрочь содрав шелуху лжи, максимально приблизив к психологической достоверности, —что-то вроде военно-полевой школы актерского мастерства, системы Станиславского. Здесь жили и умирали, любили и ненавидели, хвалили и проклинали, и все —по-настоящему, искренно, без ужимок и гримас; вся игра, любое притворство сводилось к легкой ретуши грубоватого равнодушия, к незатейливым формам нравственного камуфляжа —от хмурой и молчаливой суровости до разбитного, бедового веселья. И Бельский пронзительно, остро чувствовал свою чужеродность, несоответствие всему этому миру. Подчиненный, но чересчур раскован, вызывающе легкомыслен, заносчиво общителен; мастит и респектабелен, но нарочито беспечен, неуклюже циничен, искательно фамильярен. Все это, конечно же, камня на камне не оставляло от имиджа стареющего денди, этакого умудренного жизнью светского льва, сигнализировало о неуверенности в себе, о фальши и лицемерии. Как следствие —приговор, прочитанный им в глазах новоявленных соратников: еще один офисный Рэмбо, столичная штучка в поисках порции адреналина. Вслед за этим —вполне предсказуемые конвульсии самолюбия, злость, раздражение, даже презрение: да кто они такие, эти люди?! почему он должен прислушиваться, угождать, подстраиваться, пресмыкаться?! Но рябь недовольства быстро угасала, злость и раздражение выдыхались, оставляя за собой усталость и пустоту, душевную распутицу, новые всплески рефлексии: он – трус, слюнтяй, интеллигентная мразь и сволочь, такие как он умеют только предавать, отступать, сдаваться…
Он чувствовал себя безнадежным профаном, неудачником, стариком. Иногда казалось, что все ипостаси его лицемерия настолько явны и очевидны, настолько отвратительны и противоестественны, что только нежелание огласки, боязнь вынести грязь мешают окружающим вышвырнуть его вон. С раздражением вспоминал он школьное: «Слишком далеки они от народа…». Нет же, черт возьми! Нет! Это не про него! Он —плоть от плоти, в доску свой, он тоже когда-то терпел лишения, много и тяжело работал, голодал! Но все было тщетно. Ушли в небытие, растворились в дымке времени тени прошлого. Достаток, положение в обществе, сибаритство и пресыщенность аннулировали и лишения, и голодную юность, и годы титанического труда, оставив на память лишь воспоминания, ностальгию, —горстку пепла на дне позолоченной урны.
С горьким сарказмом вспоминал Бельский свое казавшееся ему триумфальным появление здесь. Налегке, в лакированных туфлях и шикарном костюме от известного кутюрье, —прямо из-за стола столичного ресторана, где его застало решение «сходить» на войну. Жалкий фигляр! Скоморох! Возомнил себя Гарибальди и лордом Байроном в одном лице! Кому здесь нужны его кривляния, кого он хотел здесь удивить? Здесь, где люди каждый день борются за право жить, где голод и горе —не эфемерные понятия, где смерть проста и естественна, как глоток воздуха. И все попытки представить свои выходки как трогательные причуды великовозрастного ребенка (еще одна лазейка пронырливого лицемерия), за версту отдавали штампованно-жеманным слюнтяйством, махровым идеализмом; его и самого воротило от себя, а что говорить о Мамаеве и остальных?
Читать дальше