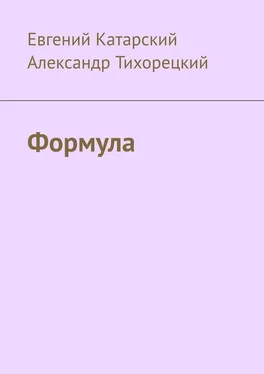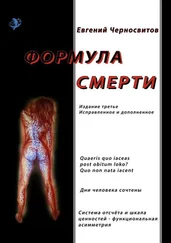Прикосновение холодных пальцев, вязкая муть вокруг. Чье-то жаркое дыхание на щеке, знакомые интонации.
— Ничего, любимый, все будет хорошо.
Это же Катя, его Катя! Значит, все-таки, доехали? А где же Мамаев? Коля? Боль тихо таяла, пятясь в прозрачную пустоту, и Бельский открыл глаза.
— Катя… —перед лицом появились глаза, огромные, вишневые, встревоженные; рука нащупала маленькую, крепкую ладонь.
— Я здесь, милый. Видишь, ты уже и заговорил. Все теперь будет хорошо…
— Катя…
— Что, Сережа? Говори, что ты хочешь? —огромные, влажные вишни тонко подрагивают под ресницами, на гладкий лоб легла морщина. Переживает. Бедная, бедная… Надо бы успокоить ее, пожалеть. Но как? Губы совсем перестали слушаться. Так много слов произнесено ими за жизнь, что сейчас они просто отказываются повиноваться. Неужели все? Нет, нет, черт возьми! Не расклеиваться! Что там у него за ранение? Это же не пятнадцатый век, в самом деле! Сейчас приедет врач и сделает что-нибудь. Укол, перевязку, операцию, в конце концов.
А как хорошо начинался этот день! Малиновый рассвет на полнеба, шальная, восторженно-юношеская бодрость, необыкновенное, пронзительное предчувствие счастья… Бледнеют проемы окон, смутный полумрак тает по углам крохотной комнатенки, краски зари ложатся на лицо спящей рядом девушки. Он видит ее локоны на подушке, ровную полоску зубов под чуть приоткрывшимися губами, он даже может расслышать ее дыхание. Это Катя. «Моя последняя удача, последний луч моей зари»… К черту иронию! Ведь он счастлив! Он должен быть счастлив! Любой на его месте был бы счастлив! И в самом деле! он вновь полон жизнью, той свежей, утренней силой, что способна подарить иллюзию молодости, хоть ненадолго вернуть ощущение простоты и ясности, легкости и поправимости. Так чего ж иронизировать? Впрочем, самоуничижение —наилюбимейшее занятие интеллигенции, видимо, даже на смертном одре. Снова! Какой, к черту, одр! —а ну-ка обратно! назад, в утро! Вот так, вот так —будто бы заново —те минуты, снова хочется петь, веселиться, шутить и смеяться, дарить радость, любовь…
Вот они пьют чай с Катей, Бельский подтрунивает над ее заспанным видом, то и дело пытается обнять, а она, смущенная, застенчивая, бросает на него испуганные, из-под ресниц взгляды.
— Ну, ты что? Совсем как ребенок, —она говорит важно, словно учитель ученику, и это еще больше веселит Бельского. Он притягивает ее к себе, целует в лицо, шею, укутанную толстым, колючим платком, и она, зардевшись, торопливо шепчет:
— Нет, ну, в самом деле! Ведь войдет сейчас кто-нибудь…
И вся она, солнечная, румяная, теплая, с темно-русой косой, уложенной в тяжелый венок на затылке, светится от счастья. Все это так неправдоподобно прекрасно, что не может быть правдой, явью, —Бельский чувствует, понимает это, и тут же оскорбленная, обожженная иллюзия гибнет; словно соскальзывая с невзятой высоты, он вновь возвращается в реальность. Здесь глаза Кати потускнели, голос прыгает, ломается, дрожит.
— Ну, что ты, миленький? Еще больно? Ты не переживай… Степан Петрович на телефоне, скорая вот-вот приедет…
Степан Петрович? Кто это? Это что же, так Мамаева зовут? А он и забыл совсем. Вот шляпа! Забыть имя командира! Какой же после этого он боец? Мысли снова возвращаются к случившемуся, но память, словно испугавшись, пятится назад, оттаскивая от роковой черты. Что ж, наверно, это правильно. Лучше пропустить, забыть, отрешиться. Лучше что-нибудь другое, мирное. Ага, вот так. Нащупать лазейку мимо боли, мимо зловещих кружев тревоги и страха. Еще одно усилие, еще один шажок —и вот уже опять утро, опять солнечный свет, и в комнату входит все тот же Мамаев, хмурый, замкнутый, сосредоточенный, с вечной печатью значительности и недовольства на лице, —в точности, как и положено начальству. И пусть война эта —не совсем война, и он —не совсем офицер, и Бельский —не совсем солдат, не может он позволить себе снова быть простым и доступным. Не имеет права. Никогда ему уже вернуться обратно, не стать парнем с рабочей окраины —таким, каким он был всего несколько месяцев назад. Трудягой, главой семейства, обремененным кучей забот, немного плутоватым, разбитным и не дураком выпить. Теперь все это забыто, поросло быльем, теперь все это —в прошлом. Сгинули, растворились в густом вареве времени прежние привычки, и уже никогда не растянутся его губы в лукавой ухмылке, и уже не хлопнешь его дружески по плечу, как бывало. Сейчас он —командир отделения, суровый и справедливый, умелый и грозный, и позывной у него соответствующий —«Мамай», и на плече у него автомат, а на поясе —«Стечкин» и граната.
Читать дальше