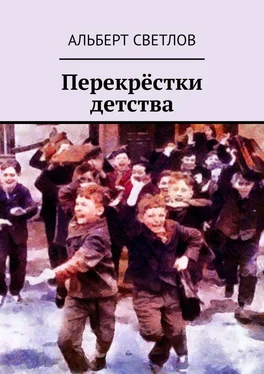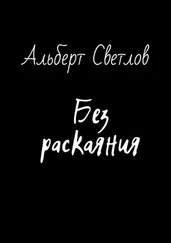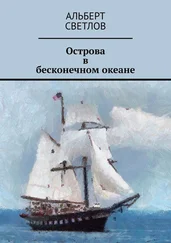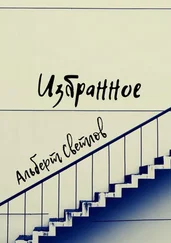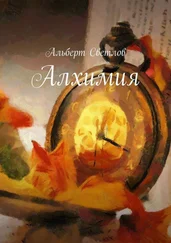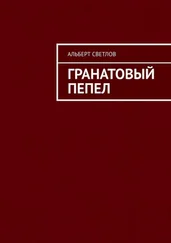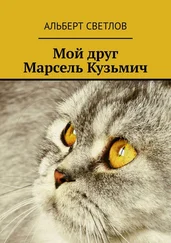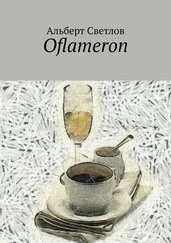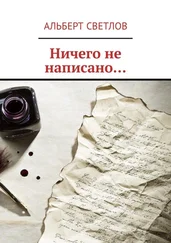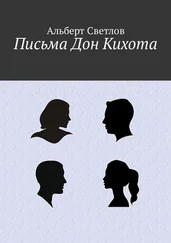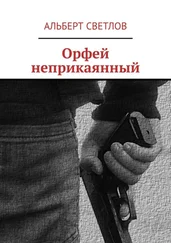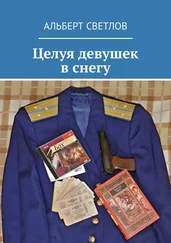В самом протяжённом месте от одного края озерца до другого расстояние равняется приблизительно 2—2,5 км. На противоположной его стороне различаются заросли, подходящие почти вплотную к осоке. Лес начинается прямиком за домишками, и относительно сух. Здесь после дождей земля редко превращается в непроходимую жижу, изрядно затрудняющую вылазки в чащу, в отличие от находящегося в низине, где Орфей родную тень зовёт.
Шоссе, ведущее в Питерку, пролегает вдоль Светловки, и рассекает селение на две части. Бо́льшая, не имеющая характерного названия, остаётся слева от неё, а вторая, справа, прижимающаяся к реке, именуется Горкой, ибо аккурат за мостом, построенным в середине прошлого столетия, а затем не единожды модернизированным, тракт спешит в гору и уносится в неведомые для того ребёнка, коим я, когда—то являлся, дали.
Бетонка, по которой туда—сюда с шелестом сновали стремительные, словно весенний ветер, легковушки, похожие на муравьёв, трескучие и юркие мотоциклы, запылённые и пахнущие мазутом, тарахтящие и плюющиеся дымом, трудяги трактора, неспешно спускалась в Питерку и медлительно, чуть надсаживаясь на подъёмах, покидала её в южном направлении. Иное – восточная трасса. Она стремилась под уклон вплоть до Беляевки, крохотного посёлка, жмущегося к Светловке, кромсающей его на несколько неровных кусков и неторопливо следовавшей далее, между покрытых соснами горных откосов, к Слудянке, селу бабушки и дедушки. К стыду своему, впервые я побывал в нём уже в солидном возрасте.
Севернее Светловка огибала деревеньку Черёмушки. В придорожном палаццо жила Дездемона, а за её околицей имелся брод через речку. Преодолеть его представлялось делом, хотя и реальным, но рискованным. Течение при глубине в 50—70 сантиметров на данном отрезке довольно сильное.
Двигаясь от Черёмушек, преодолевая мелководье по наезженной мягкой засасывающей жирной дороге, сразу попадаешь в разбитые лесовозами и трелёвочниками колеи, путающиеся в чащобе. Маршрут сквозь тайгу активно использовался в 50—60-е годы, а позднее оказался заброшен. Ко времени, что я принялся настырно исследовать просеки упомянутого кластера, он практически зарос, где—то гуще, где—то реже, оставив напоминанием о золотом веке прибрежные поскотины, и мне не удалось выяснить, куда вели тропы. Бродя наудачу, я неизменно в этом лабиринте утыкался в тупик. Советские топографические карты показывали, что дорожки не должны теряться посреди бурелома, добираясь до села Мокрого. Однако попытки пробиться к нему по крапиве, малине и шиповнику, рвущим одежду, обдирающим колючками лицо и руки, достигающим высоты моего роста, а то и превышающим его, вряд ли доставят путнику много удовольствия.
Заблудиться тут не страшно: с юга раскинулась сеть грунтовок, с запада бежит Светловка, и лишь к восходу простирается сплошная чаща, рябину поджигая красной кистью осени. Разумеется, зная сии нюансы, не сложно выбраться либо к автостраде, либо к Светловке. Впрочем, я, если вдуматься, чуток преувеличил. Неподготовленному человеку не очень—то легко протопать по валежнику и километр, отмахиваясь от самоубийственно пикирующих комаров, лезущей в глаза, под куртку, в уши, нос, мошки, постоянно спотыкаться о поваленные полугнилые мшистые скользкие стволы деревьев, старательно сражаться с дремучим папоротником, обливаясь потом, обходить всевластные кустарники, прыгать по кочкам на старых лесосеках, где вообще утрачивается всякая ориентация из—за победоносной мясистой поросли.
«Нам, почтальонам, голова не нужна. Нам крепкие ноги нужны. А ещё лучше – велосипед!»
И. И. Печкин. «В седле»
Все мы, – брат, я, наши приятели, проводили иногда на берегу целые дни, жарясь на разделочной доске палящего до одури и тошноты солнышка, ловя мелькающих перед глазами мушек и окунаясь в чуть зябкую негу серо—зеленоватой влаги. Конечно, мы не в одиночку балдёжничали на памятном откосе, пристроившемся за деревней, и вытянувшим к соснячку волглый язык мелкого песка с вкраплениями гальки. Ближе к жилью, у мостков валялись вверх днищем тяжёлые лодки с осыпающейся с бортов свернувшейся краской. Некоторые покачивались на поверхности, прикованные цепями к металлическим ржавым трубам, вбитым в землю. Обычно, дно таких посудин подтапливалось сочившейся в незримые щели речной водой с крупой песочка. Кое—кто из рыбаков, вычерпывал её небольшим помятым ведёрком, отцеплял своё утлое судёнышко, отгребал на нем подальше и маячил чёрной неразборчивой картонной фигуркой, наскоро вырезанной и воткнутой в застывающее стекло. Временами в реке было тесно от бултыхающихся, а спуск практически полностью усеивался разноцветными одеялами, красными и синими, жёлтыми и розовыми, брошенными прямо на облетевшие одуванчики, бархатную на ощупь мать-и-мачеху, жилистые подорожники, а на них, подрумяниваясь, лежали и сидели взрослые и дети. Многие не купались, но абрикосовое солнце щедро, без разбора ласкало собравшихся.
Читать дальше