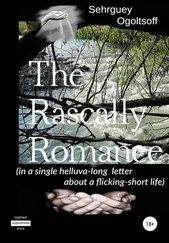Ванную Баба Марфа называла «баней» и после еженедельного купания возвращалась в детскую распаренной до красноты, усаживалась на свою койку чуть ли не телешом—в одной из своих длинных юбок и в мужчинской майке на лямках и – остывала, расчёсывая и заплетая в косицу свои бесцветные волосы. На левом предплечье у неё висела большая родинка в виде женского соска – так называемое «сучье вымя».
В ходе одного из этих остываний, когда она ничего, казалось, не замечает кроме пластмассового гребешка и влажных прядей своих волос, я улучил момент особо бурных пререканий моих брата-сестры на большом диване и заполз под пружинную сетку в узкой бабкиной койке, просевшую под её весом. Там я осторожно перевернулся на спину и заглянул вверх – под юбку между широко расставленных и крепко упёртых в пол ног. Зачем? Я не знал. Да ничего и видно-то не было в тёмном сумраке изнаночного купола её юбки. И я уполз прочь со всей возможной осторожностью, чувствуя запоздалый стыд и сильно подозревая, что от неё не утаилось моё заползновение…
Саша был надёжный младший брат, доверчивый и молчаливый. Он родился вслед за шустрой Наташкой и напугал медицинских работников посиневшим цветом лица из-за пуповины, которая захлестнула его и чуть не удавила, однако при этом он родился в сорочке, хотя ту всё равно в роддоме с него сняли. Мама говорила, что из сорочек новорожденных делают какое-то особое лекарство.
А Наташка и впрямь оказалась ушлой выдрой. Она первая узнавала все новости – что назавтра Баба Марфа будет печь пышки, что в квартиру на первом этаже въезжают новые соседи, что в субботу родители уйдут куда-то в гости, и что никогда-никогда нельзя убивать лягушку, не то дождь польёт.
Баба Марфа заплетала ей две косички по бокам от затылка вперемешку с ленточками, чтобы каждую из косичек закончить красивым бантом. Но жил такой бант недолго и распадался на тугой узел и пару узких хвостиков из ленты. Наверное, из-за усердного верчения головой во все стороны примечать: что-где-когда?
Двухлетняя разница в возрасте давала мне прочный запас авторитета в глазах младших. Однако, когда Саша молчком повторил моё восхождение на чердак, то этим поступком он как бы обогнал меня на два года. Конечно же ни он, ни я, ни Наташа не могли в ту пору выразить словами такие дедуктивные вычисления. Мы оставались на уровне эмоциональных ощущений выразимых междометиями типа «ух, ты!» или «эх, ты!»
Невысказанное желание поправить мой пошатнувшийся авторитет и самоуважение, а может и ещё какие-то невыразимые или уже забытые причины довели меня до того, что однажды перед сном, когда свет в комнате был уже погашен, но брат-сестра пока ещё брыкались лёжа «валетом» на диване, потому что Баба Марфа не могла на них шумнуть—стоя возле своей койки, она шепталась с верхним углом—я вдруг подал голос со своей алюминиевой раскладушки в центре комнаты: —«Бабка? А ты знаешь, что Бог – сопляк?».
Шёпот мгновенно стихает, из темноты зачастили громкие угрозы сковородкой, которую черти в аду раскалят докрасна и заставят меня лизать, но я лишь нагло смеюсь в ответ, подстёгнутый благоговейным онемением дивана, и оставляю без внимания предстоящие муки: —«А ну и что! Всё равно, твой Бог – сопляк!»
Наутро Баба Марфа со мной не разговаривала. По возвращении из садика я выслушал сводку новостей от Наташи, что Баба Марфа всё рассказала Папе, когда он пришёл после третьей смены, и плакала на кухне. Сейчас родители ушли куда-то в гости, но мне точно будет да ещё как! На мои заискивающие попытки восстановить общение Баба Марфа ответила непримиримым молчанием и вскоре ушла на кухню… Прошло нескольких часов подавленного жданья, прежде чем хлопнула входная дверь и в прихожей раздались голоса родителей. Они переместились в кухню и звучали там всё горячей и громче. Дверь нашей комнаты не давала разобрать о чём.
Громкость на кухне всё нарастала, а вот и дверь распахнулась рукой Папы. «Что?!. Над старшими измываться? Вот я тебе дам „сопляка”!» Руки его выдернули ремень из брюк. Чёрная змея взблеснула хромом квадратной головы, взвилась по потолок. Взмах руки и – незнаемая прежде боль ожгла меня. Ещё. И ещё.
Выкручиваясь и вереща, закатываюсь под бабкину койку укрыться от ремня. Схватив за прутья спинки, Папа мощным рывком выдернул койку на середину комнаты. Матрас и прочая постель свалившись остались под стеной. На четвереньках, я догоняю койку, ныряю под щит её пружинно прядающей сетки. Койка выплясывает на двух ногах, туда-сюда, Папа дёргает её из стороны в сторону, охлёстывает ей бока, но я с необъяснимой прытью шустро шмыгаю вслед за сеткой над головой, вплетая свои крики «Папонька! Родненький! Не буду! Никогда не буду!» в его осатанелое «Сопляк! Гадёныш!»
Читать дальше





![Чарльз Диккенс - Избранные романы в одном томе [компиляция]](/books/426314/charlz-dikkens-izbrannye-romany-v-odnom-tome-komp-thumb.webp)