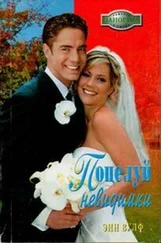– Говорить можно и поменьше, – с грудным смешком отозвалась Гвендолин. – Ты так не думаешь, Ник?
Он хмыкнул. Трудно было понять, дерзит она – или просто дразнит. Может, упоминание о «друге Джо» ее развеселило, и она думала, что такой идиотской отмазки давно не слышала.
Скорее, все вместе. Она сжалилась:
– Впрочем, иногда слова помогают.
Ник потерянно покивал, ее рассудительный тон как-то плохо подходил этому заведению. Он вообще полагал, что девушки подобных профессий преимущественно мяукают нечто невразумительное, щебечут, как птицы, все такое. Гвендолин прервала его горестные размышления, спросив, с деликатным, бережным любопытством:
– Что за акцент?
Он сразу понял, о чем она, но предпочел изобразить дурачка:
– Мой?
– Да, – терпеливо кивнула она. Она слушала его очень внимательно, не сводила с него этих прекрасных глаз, и это ввергало его в нечто необъяснимое, странное, словно бы погружаешь руку с невозможно теплый и ласковый поток в реке, только… нет, это не рука – а сердце.
– Датский.
– О, – с заученным, хотя и милым изумлением. – Очень красивый.
Он рассмеялся:
– А вот этого мне никогда не говорили.
– Правда? Будто… слова будто льдинки, – она подняла руку и провела пальцем круг вдоль своей щеки. – Ровные, но немного колючие.
Ему хотелось закричать от отчаяния. От того, как сильно ему желалось, чтобы она повторила это ему – только ему – только ему, блядь. Чтобы она правда так думала. Чтобы… черт. Черт ее побери. Ведь она говорила это разным мужикам, и они все сидели, как лохи, развесив уши, слушали этот нежный бред, эту прелестную, лживую, блядскую херню, с колотящимся от вожделения сердцем, а может, и со стояком. Русский акцент, датский, шведский, даже какой-нибудь японский. Сука.
Гвендолин повернулась к своему смешному магнитофончику. Щелкнула кнопкой, и Ник невольно хихикнул:
– Как-то уж очень по старинке. Что, высокие технологии у вас тут запрещены?
– Нет. Это только моя причуда. Для настроения, – она шаловливо посмотрела через плечо и пожала им же. – Мне нравится звук, когда он идет от кассеты.
Сколько тебе лет, хотелось ему спросить. Но он сдержался. Ей могло быть двадцать – тридцать или даже сорок, возраст ее, как у многих холеных, ухоженных англичанок, стал чем-то неопределенным и податливым. В какой-то момент они все застывают в одном и том же времени, английские розы, цветущие ангелы: чтобы потом мгновенно провалиться в другое время, время чопорных аккуратных старух.
Она что-то нажала, с кассеты полился суховатый тихий рокот, шуршание, которое, правду сказать, они перестали слышать, перейдя на айфоны и прочие современные вещи. В этом звуке оставалась магия. Хотя, может, и правда – лишь отголосок нашего детства, подумалось ему.
Эта Гвендолин не так уж глупа.
Нет, она совсем не глупа, тотчас ответил он себе. Она… разумеется, она ничего такого не сказала за эти минуты, просто была вежлива и предупредительна, но во всем, что она делала и говорила, все равно сквозили две вещи – добрая, деликатная искренность и живой ум.
Это все только портило, конечно же.
Он сел поудобнее, сделал еще глоток, разглядывая ее в упор. Она была одета довольно странно – для стриптизерши. Но не странно для нее самой, ведь он уже видел один крышесносный танец. Он уже понял, что она не нуждалась в мишуре и блестках на титьках.
Она сама была как огромный новогодний подарок или как фигурка для украшения гостиной, только живая и настоящая.
На Гвендолин была короткая черная юбка из кожи или чего-то такого. Обтягивающая черная водолазка под горло. И туфли с высокими тонкими каблуками, тоже черные. Чулок на ней не было, и это ему сразу понравилось, ему нравилось видеть голую кожу ее ног, абсурдно длинных и вопиюще восхитительных.
У нее были красиво вылепленные, полноватые (но это их только украшало) колени, от них вверх уходили гладкие колонны бедер, а вниз – безупречно-длинные икры. Они переходили в тонкие крепкие лодыжки, а затем – в большие и узкие ступни, с едва заметными бугорками на взъеме – следами долгих балетных уроков или чего-то в этом роде. Он слышал, что настоящим балеринам ножки буквально выламывают, делая подъем таким выпуклым, это считается особенно красивым.
Новая форма издевательства, конечно, подобная лотосовым ножкам, но вслух он этого не решался произносить. Например, его жена (бывшая, да) считала, что балет – это очень красиво, а он просто мужлан и ничего не понимает в искусстве.
Читать дальше

![Эрик Рассел - Подарок дядюшки Джо [=Подарок от Джо] (ёфицировано)](/books/65161/erik-rassel-podarok-dyadyushki-dzho-podarok-ot-dzho-thumb.webp)