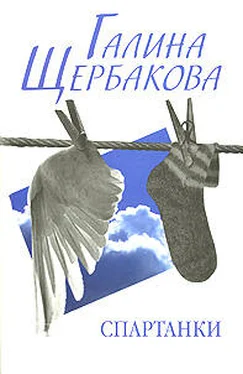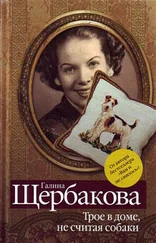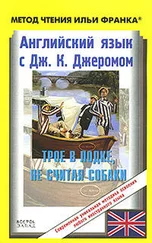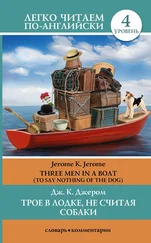Галина ЩЕРБАКОВА
ТРОЕ В ДОМЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ
Сладкая боль: мягкая лапка двигает сердце то влево, то вправо. От этого она проснулась. Непривычное торканье в груди неприятным не было, но почему-то рождало тревогу. Маня опустила руку, привычно ища Баську. Сейчас она на нее прыгнет, оближет ей морду, и тревога уйдет. Баська – сердечный лекарь. Собственно, и так нормально. Мягкая лапка – даже приятно. По-своему… Но Баськи под рукой не было. «Ба-а-ась!» – хрипло от сна позвала Маня, Баська не прыгнула, а сердце уже колотилось как сумасшедшее.
Она лежала в самом углу, оскалив зубы, на нижней губе у нее присохли таблетки фенозепама. Собака была твердой и холодной.
Маня закричала. Но тут же закрыла себе рот ладонью. Смерть холодом схватила ее босые ноги и как-то сноровисто, будто всю жизнь знала как, стала по ней карабкаться вверх и вверх на встречу с колотящимся сердцем. «У девочек не бывает инфаркта», – сказала она, даже, кажется, вслух. «Еще как бывает!» – ответила та , что уже была где-то в районе пупка и присела передохнуть в ямке.
И тогда Маня закричала, не перекрывая рот. Одновременно (вот ведь подлая человеческая природа, думала она) успела снять с холодной басиной губы таблетки. Они были чуть влажные и распались в пальцах. Можно сказать, что они вмиг исчезли. В дверях стояла мать. Черные подглазья, старая бумазеевая ночнушка и распластанные в сбитых тапках ступни.
– Бобик сдох, – сказала Маня.
Вид матери был так удручающе жалок, так беззащитен в присутствии смерти, что этот «Бобик» случился на языке сам. Ей давно отец объяснял секрет «другого имени». Назови близкое чужим именем, и оно, близкое, перестанет быть им, новое имя отторгнет боль.
Вот и лежащая на полу Бася – вовсе не ее подружка, а чей-то там приблудный Бобик пришел – не звали – и сдох.
Слышишь, бедная моя мама. Это Бобик. Мы его не знаем. Он не наш.
– Это дворники-сволочи! Нарочно разбрасывают у подъезда отраву, – закричала мать.
– Маруся! Ты этого не знаешь, – криком на крик отвечает бабушка Маша, она смотрит из-за спины матери. – Зачем ты так о людях?
Смерть же окончательно растворилась в ямке пупка. И Маня подумала, что даже смерть их не выносит – мать-сквалыгу и бабушку – теоретика справедливости.
– Дворники, дворники! – верещит мать, и лицо ее покрывается красными пятнами в самых что ни на есть неподходящих местах, в подглазье, на лбу и под носом. Ну что стоит пятну сесть на щеки и придать матери свежий морозный вид, так нет же. У нее все не так.
«Бабахнуть бы чем-нибудь, – думает Маня. – Интересно, сколько стоит граната?» Она делает ладонь лодочкой, мысленно кладет в нее гранату и… Тогда бы она наверное успела догнать Баську на дороге к главной переправе. Интересно, там все еще Харон или у них тоже ротация кадров ? Она даже повторила вчера или позавчера эти слова за телевизором. Ро-та-ция. Ция. Тора. Дров. Харон бы удивился ей на переправе и даже спросил: «У вас уже девочки умирают от инфаркта?» И тогда она сказала бы ему то, что не сказала «сквалыге» и «теоретику». Она не сказала главного: «Бася съела мою смерть, а это нечестно. Я пошла за ней».
Но сейчас она молчит. Застывший комок жизни возле застывшей смерти.
– Звони отцу, – сказала мать. – Пусть вывозит труп.
«Вот ему я скажу, – думает Маня, – пусть мучается. Он же виноват».
Сладкое это чувство – растворение собственной вины в вине чужой. Так же хорошо, как и перемена имени. Втолкни собственное свинство в пространство свинства другого – и тебе уже покойно и почти хорошо. Нет, конечно, не совсем хорошо, но частично – будто расстегнули тугой пояс. Полегчало.
Отец приехал быстро. Долго звонил в дверь, потому как мать забрала у него ключи сразу и навсегда. Правильно, с какой стати, если он живет в другом доме. Теперь пусть стоит и звонит до посинения. Бабушка в сортире. Мама рисует подглазья. На синем черное – атас. Маня стоит под дверью. И только когда они обе – бабушка и мать – начали на нее орать, Маня впускает отца. Он проходит мимо нее, как мимо стенки. Молчит, глаза у него красные. Сколько разноцветного вокруг.
– Не высыпаешься? – ядовито спрашивает мать.
«Фиг он вам что-то скажет», – думает Маня. Отец берет уже завернутую в старое детское одеяло Басю и идет к двери. Маня плетется следом. Когда открылась дверь лифта, он шагнул в него, а двери стали смыкаться, Маня торжественно и громко сказала в щель: «Бася съела мою смерть», «Теперь он вернется, – думает она. – Мне бы сказала такое дочь, я бы вернулась и вытрясла из нее душу».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу