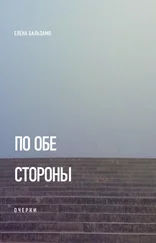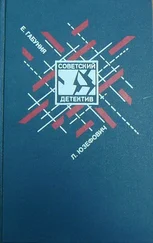В палате было многолюдно — временами практически не протолкнуться. Особенно ближе к ночи, когда мамы пристраивали к железным кроватям ветхие казенные раскладушки и клеенчатые кушеточки из коридора.
При этом, как ни удивительно, никто никому не мешал. Дети покоились в своих хирургических ложах строго фиксированно — кто, как Туська, с подвешенной к блестящей железной палке ногой, кто — пластом на животе или спине. Лишь двое-трое в гипсовых корсетах-панцирях активно елозили по своим койкам и порой, изловчившись, усаживались, подпихнув под спину подушку, под завистливыми взглядами лежачих. И единственная из всех, тоненькая, как прутик, Танечка с массивным гипсовым воротником вокруг поломанной шейки (утром перед школой причесывалась и как-то необыкновенно мощно чихнула, повредив позвонки), на собственных, безо всяких трещин, переломов и смещений ногах свободно лавировала между кроватными рядами, подсаживаясь на краешек то одной, то другой койки — заманить ее на свою кровать было делом чести и палатного престижа.
Мамы же словно бы вообще не занимали в пространстве никакого места. Подобно призрачным теням, неуловимо перемещались они от кровати к умывальнику, а от умывальника — к двери; без единого скрипа открывали ее и исчезали, чтобы через минуту вновь возникнуть на пороге с тарелкой супа, направлением на анализ или бутылкой кефирной активии из общего коридорного холодильника. До недавних пор довольно рослые и весьма далекие от модельных габаритов мамаши теперь вполне привычно и даже не без уюта располагались на ночь на смехотворном кушеточном пространстве. И волосы у всех были теперь одинаково гладкие, глаза — сухие и зоркие, а голоса — одинаково тихие, шелестящие. И произносили они короткие, похожие на условные пароли фразы: «Как снимок?», «Да вроде не домиком», «Вот возьми, пускай поест», «Опять болит?», «Давай позову».
В этом больничном государстве действовали иные, чем в остальном мире, законы.
Да и существовал ли он в самом деле, этот остальной внешний мир? Прошлая жизнь вспоминалась мамам редко и почти всегда — с неподдельным изумлением. Какие там школы, завучи, педсоветы? Какие еще офисы, супермаркеты, парикмахерские, праздники?!
Все это исчезло, рассыпалось в прах при одном только слове «перелом», растаяло в воздухе при первом же звуке дребезжащих колес железной каталки.
Здесь разом поломались все прямые жизненные курсы, и корабли судеб вдруг перестали слушаться опытных рулевых.
И всем, от капитана до последнего матроса, пришлось постигать иные жизненные премудрости.
Здесь ценилось, например, умение соорудить из подручных средств столик для лежачего ребенка; рассмешить всю палату перед самым уколом; ловко вызнать у ночной медсестры все насчет «роэ» и «соэ» в анализах; свесить русую девчачью голову с кровати и, не успеет девчонка опомниться, в две минуты вымыть роскошные косы, подставив снизу тазик из санитарной комнаты.
Вся жизнь здесь состояла из бесконечного ожидания — утра, обхода, снимка, анализов. Время до утра, кому не спалось, коротали в коридоре у двери, с газетой «Народные целители советуют» или «На грани невозможного»; до обхода врача — с тряпкой или шваброй; снимков и анализов дожидались, обсуждая различные истории болезни и случаи чудесного исцеления.
И были в этом ожидании свой уклад, и порядок, и даже своя религия.
Здешнего бога звали Василь Филиппыч.
Едва он входил в палату, как воцарялась тишина.
Ибо были бог велик ростом и широк в плечах, и всегда прям был его позвоночник, и не разглядеть было выражения его прищуренных глаза под седыми бровями, а губ — под пышными усами.
Трепет охватывал детей при одном звуке могучего голоса, при густом табачном запахе бога. Самым легким, но уверенным прикосновением его руки умели нащупать, определить, сместить и разровнять. По его властной команде садились лежачие, и вставали сидячие, и начинали сгибаться доселе неподвижные конечности. И таинственно шептали о нем, что множество раз возвращал он людей с того света в Афгане и Чечне; а также что лечиться к нему приезжали из Ставропольского края, Подмосковья и ближнего зарубежья.
Мамы неслышными тенями следовали за ним, ловя на лету каждое его слово.
Однако вновь прибывшим не так-то просто было понимать язык бога.
Не все догадывались с первого раза, например, что вопрос: «Ну что? Кошмары ночные тебя замучили, коза?» означает подозрение на вторичную энцефалопатию и намерение пригласить на консультацию невропатолога, а недовольное: «Надоела ты мне уже, обезьяна!» — обещание благополучной выписки.
Читать дальше