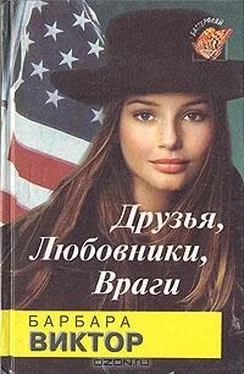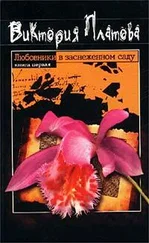Соседи тоже приходили. Стучали или звонили в дверь. Оставляли корзины с цветами и провизией; записки с выражением соболезнования и словами о том, как они потрясены. И если даже они не стучали и не звонили, Гидеон ощущал их присутствие, слышал, как они бродят снаружи — слишком деликатные, чтобы навязываться, и слишком потрясенные, чтобы оставить его в покое.
Однажды, в час, когда над городом начали сгущаться сумерки, у двери его дома позвонили. Первый раз за прошедшие несколько дней. Это был длинный и настойчивый звонок, и звучал он как-то по-иному, чем другие, более доверительно, что ли, и звонивший, державший палец на кнопке звонка, отнюдь не собирался сдаваться. Пока Гидеон медленно ковылял через весь дом к веранде, он уже не сомневался, кто был этот настойчивый визитер. Не сомневался он и в том, что позволит ему войти. Отперев дверь, он отступил чуть назад, давая дорогу Рафи Унгару.
— Хватит, — заявил старик, кладя Гидеону руку на плечо и притягивая к себе. — Я нужен тебе здесь, — добавил он, прежде чем отпустить его от себя.
Трудно объяснить, почему Гидеон, застыв на месте, сквозь слезы смотрел на старика. Потом он отвел глаза в сторону и проговорил:
— А выглядишь еще хуже, чем я.
— Ну, это мы еще посмотрим, — ответил Рафи хрипловато. — Во всяком случае, мы бы не были вместе двадцать лет, если бы ты брал в расчет то, как я выгляжу.
Он провел ладонью по своим седым волосам — единственному, что изменилось в нем за все годы. В остальном он был все тот же: поджарый, энергичный, с темными, почти черными глазами. Руководитель Моссад.
Гидеон повернулся и пошел в библиотеку. Рафи последовал за ним и, когда они сели, заметил:
— Ты слишком много куришь.
Вздохнув, Гидеон прикрыл глаза, откинувшись назад, вытянул ноги. Помахал сигаретой.
— Откуда тебе знать? Ты же только вошел.
— Здесь не продохнуть.
Гидеон смотрел куда-то в пространство, а когда заговорил, в его тоне послышалась горечь.
— Я регулярно заставлял Ави глотать витамины, хорошо есть. Все для того, чтобы он не заболел и не ослаб. Зачем все это?
— Гидеон, что об этом толковать! Внезапно все накопившееся внутри — отчаяние, злость — хлынуло наружу.
— Ни слова о том, сколько я курю! Не смей меня успокаивать! Я сыт по горло соболезнованиями и цветами!
— Просто люди не знают другого способа выразить сочувствие.
Гидеон взглянул на фотографии, расставленные по книжным полкам.
— А знаешь, — он словно говорил сам с собой, — впервые за все годы с тех пор, как мы поженились, ей захотелось со мной поговорить. — Он не ждал ответа; его тон вовсе не приглашал к диалогу. — Перед тем как уехать, она впервые заговорила со мной. — Он покачал головой. — Она сказала, что я единственный, кто никогда не ждет объяснений и сам не задает вопросов. Самое ужасное в том, что я никогда не пытался узнать, каково у нее на душе. Это потому, что и сам никого не хотел пускать к себе в душу. И моя работа тут ни при чем. — Он прищурился. — Вся моя жизнь была набором сведений, которые надлежало держать в секрете. Все свое время я тратил на то, чтобы никто не запустил в них лапу, — вздохнул он. — А что мне действительно следовало бы сделать, так это попытаться понять, как страдает моя жена.
— Страдает — отчего?
— От всего. Уже от одного того, что с самого рождения, с первых лет жизни семья смотрела на нее как на представительницу нового поколения, рожденного в Израиле. Поколения надежды! Поколения, призванного на великие дела!
— Не будь старомодным, — проворчал Рафи.
— Слишком многозначительно, слишком абстрактно, — сказал Гидеон, — но только не тогда, когда живешь с этим каждый день.
— Откуда тебе знать о тех первых годах? И ты, и она были тогда еще слишком молоды.
Их разговор меньше всего походил на дискуссию. Мысли и слова Гидеона были все еще весьма бессвязны. Внезапно мысли его унеслись далеко — к началу супружества.
— Мы ссорились каждую ночь. Обычно она дожидалась, пока я лягу в постель, и только тогда заходила в спальню. А войдя, останавливалась, чтобы увериться, что я сплю, и, если я зашевелюсь или что-то скажу, начнет медлить, снова и снова укладывая свои вещи. — Он затянулся сигаретой. — Потом она робко прокрадывалась в темноте к кровати и надевала ночную рубашку, в которой была похожа на свою прабабушку. Я кричал на нее, она плакала. Когда же она наконец ложилась в постель, и я хотел до нее дотронуться, то вела себя так, словно я хочу ее убить. Это продолжалось до тех пор, пока однажды я просто оставил свои попытки и перестал кричать на нее. Но я никогда не попытался понять, почему она так реагировала.
Читать дальше