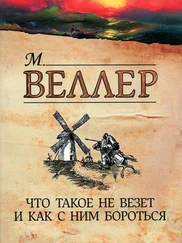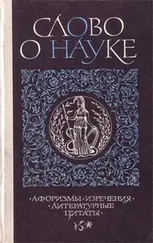Было четыре утра. Всегда, когда я нервно вскакиваю в спящем доме, на часах именно эта цифра. Я вылезла из постели и пошла к Китти, Там я устроилась в ситцевом кресле для кормления, которое Китти не разрешает убирать из ее комнаты. Мне нравится смотреть, как она спит. В такие минуты она снова становится маленькой: лицо расслаблено, рука небрежно устроилась на груди, длинные темные ресницы слегка подрагивают на щеках, рот чуть-чуть приоткрыт. У нее необычайно красивые губы — пухлые, алого цвета, будто сочный спелый плод. Они словно предвещают, что совсем скоро она станет чувственной юной женщиной. Я хотела ее поцеловать, но удержалась и вместо этого нежно прижалась рукой к ее груди, чтобы почувствовать, как она поднимается и опускается. Когда они с Лео были младенцами, я частенько подносила палец к их носам, чтобы проверить, дышат ли они. Иногда мне не удавалось поймать мягкое детское дыхание, и, перепугавшись, я тыкала в них пальцем, и они просыпались. Я все еще помню, как сидела в этом же самом кресле посреди ночи и кормила грудью сначала Лео, а потом, через пару лет, Китти. Мне казалось, я одна на всем белом свете сейчас не сплю, и старалась не шуметь и удерживать детей от слез, чтобы не разбудить Грега. Невыспавшийся, он целый день пребывал в дурном расположении духа.
Вдруг Китти дернулась и загадочно прошептала:
— Четыре каштана и хвост барсука.
Все в этом доме, кроме меня, говорят во сне. Особенно отличается Грег, который своими громкими библейскими проповедями будит меня посередь ночи. Может, ему снится, что он Иисус? Больше всего на свете он боится, что на него снизойдет озарение. Он даже заставил меня поклясться, что я пристрелю его, если он вдруг «переродится» и обратится к религии.
Я спустилась вниз. Дом в ответ застонал, поскрипел и снова погрузился в сон. Я посмотрела вокруг, на свою жизнь, на весь ее беспорядок. Сваленные в кучу куртки, ботинки, валяющиеся на лестнице. Подбираем и переставляем, вот чем мы занимаемся всю свою жизнь: берем что-нибудь и ставим на другое место, потом снова переносим куда-нибудь еще. Все свободные поверхности были заняты вещами. Похоже, хлам научился спариваться и теперь размножался пугающими темпами. Непарные носки разбились по группировкам и теперь тусовались с пустыми чашками из-под кофе, небрежно сброшенной одеждой и бесконечными бумажками. Иногда бардак грозился завалить меня с головой. А что, если я просто выйду из дома и никогда не вернусь? Поеду в аэропорт, сяду на первый же самолет, куда угодно, и начну жизнь заново? Время от времени я обращалась к этой идее, обдумывала ее, пробовала на вкус, прежде чем в очередной раз от нее отказаться, ведь серьезно я об этом никогда и не помышляла. От мысли о том, что придется бросить Лео и Китти, мне становилось плохо, физически дурно — тупая тошнотворная боль переполняла все мое нутро.
В детстве, когда меня мучили кошмары или вовсе не спалось, папа приносил мне горячего молока. Пока я пила, он сидел рядом, трепал меня по голове и разглаживал мои брови большим пальцем. Потом пел свою самую новую песню, которую еще не дописал и которую никто, кроме меня, еще не слышал. Иногда в ней был всего куплет или два, и он пел их снова и снова, все тише и тише, пока я не засыпала. Я любила эти папины-и-Хлоины вечера, когда из моего мира исчезали любые опасности. И сейчас я пью молоко только тогда, когда просыпаюсь глубокой ночью. Я взяла кружку и прижала ее к себе, свернувшись калачиком на диване. Я пыталась понять, отчего мне так тревожно. Наверное, я задремала, потому что очнулась только от шестикратного хрюканья свинки, которая вместо кукушки вылезала из наших китчевых часов (подарок моего брата Сэмми). Я взяла телефон и набрала номер.
— Пап? — заговорила я.
— Простите, кто говорит?
— А что, тебя еще какая-нибудь дама папочкой зовет? — поинтересовалась я.
— Не будем об этом, — рассмеялся папа.
— Это Хлоя, — подсказала я, подыгрывая.
— Точно-точно, была у меня такая дочка Хлоя, но я о ней уже очень давно ничего не слышал.
— Да мы три дня назад разговаривали! — возмутилась я.
— Ты прекрасно знаешь, что для еврейского отца три дня это словно три месяца, — заметил он.
— Ты там не спишь?
— Уже нет.
Но я-то знала, что он и так уже проснулся. Каждый день в шесть утра он уже сидит за фортепиано.
— Подожди минутку, деточка, — попросил папа, — я должен выпустить на бумагу птичек, пока они не улетели.
У моего папы в голове крутятся песни так же, как у нормальных людей мысли. В детстве я придумала, будто в его голове живут птички, которые вылетают и поют, стоит ему открыть рот. Он должен их ловить, и я точно знала, что потом он приклеивает их на бумагу, ведь маленькие нотные значки в его тетрадях выглядели точь-в-точь как крошечные черные дрозды, сидящие на проводах. Когда птички готовы вылететь на свободу, папа страшно волнуется, и до того, как он их всех распределит по местам, говорить ему не хочется. Так что несколько минут я терпеливо ждала.
Читать дальше