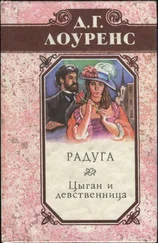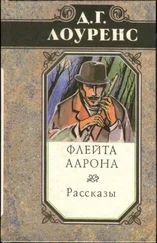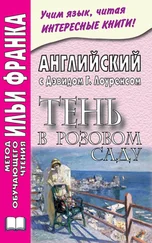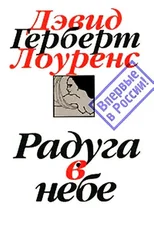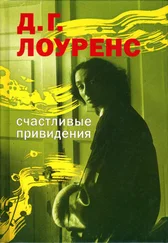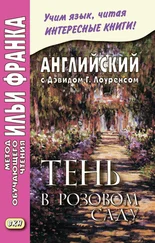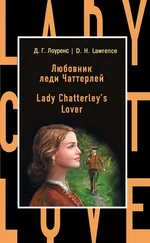«Пернатый змей» — отнюдь не исключение в этом ряду: и Родон Лилли в романе «Жезл Аарона» (1922, рус. пер.: М., 1925), и собрат Д. Г. Лоуренса по профессии писатель Ричард Сомерс в романе «Кенгуру» (1923), подобно Руперту Беркину, тщетно ищут пути приложения своих незаурядных натур к переустройству несправедливого миропорядка в союзе с «людьми действия», «сильными личностями», с головой ушедшими в круговорот общественного противостояния и во имя достижения своих политических целей не гнушающимися насилия. Однако, чем бы ни завершалась задуманная последними — такими, как предводитель законспирированного радикально-оппозиционного движения в Австралии Уилли Струтерс, — авантюра, внимательного читателя этих романов, отмеченных точностью локальных этнокультурных и географических примет и неподдельной живописностью экзотических ландшафтов, не оставляло сомнение в том, что данная траектория жизненного пути выбрана Сомерсом и Лилли верно и безошибочно. Ибо колебания, исподволь терзавшие того и другого, собственно были мировоззренческими колебаниями самого автора, подсознательно ощущавшего, что внесоциального выхода из общественных противоречий, по сути, не существует.
Трудно писавшиеся, эти романы оставляли аудиторию и критику в тягостном недоумении относительно направления, в котором эволюционировала художническая мысль Д. Г. Лоуренса; и едва ли можно удивляться, что спустя пять-десять лет, когда политическая карта мира как на Востоке, так и на Западе стала обнаруживать симптомы все более отчетливого сползания в сторону тоталитаризма — фашистского в муссолиниевской Италии, национал-социалистского в Германии, псевдосоциалистического в советской России, часть авторитетных литературоведов и критиков в Англии и за ее пределами усмотрела в этих книгах писателя (к тому времени окончательно оставившего надежды на социально-реформистское обновление общества и однозначно аттестовавшего себя на страницах романа «Любовник леди Чаттерли» вдохновенным певцом частного бытия) небезобидную апологию «сильной личности» с вытекающими для европейской демократии катастрофическими последствиями [150].
Некоторые из этих упреков могут показаться обоснованными и применительно к «Пернатому змею», создававшемуся с неменьшими трудностями на протяжении трех лет; однако по сравнению с «Жезлом Аарона» и «Кенгуру» «мексиканский роман», как привычно именовал его автор, производит впечатление несравнимо большей эмоционально-художественной силы. Учитывая мировоззренческие противоречия, отразившиеся на его страницах и обусловившие определенную неровность его композиционной структуры, можно, в общем и целом, разделить мнение американского биографа Д. Г. Лоуренса Харри Т. Мура, назвавшего «Пернатого змея» «самым амбициозным фиаско автора на романном поприще» [151]. Стоит, однако, оговорить, что на той же странице своей книги Харри Т. Мур констатирует: «При всем том „Пернатый змей“ содержит ряд лучших страниц лоуренсовской прозы» [152]. А несколько ниже тот же исследователь еще точнее обозначает место данного романа в сложной и противоречивой палитре наследия Д. Г. Лоуренса-прозаика: «С ходом времени стало очевидным, что, даже оставаясь фиаско на фоне других книг Д. Г. Лоуренса, „Пернатый змей“ знаменует собой грандиозное фиаско, воплотившееся в блеске отдельных фрагментов, являя большее достижение, нежели гладкие и выстроенные произведения других писателей, поднятых критикой на щит в тот период» [153].
Истоки этого, думается, следует искать в биографии необыкновенно чуткого к нюансам времени и пространства художника. Несколько лет, проведенных им с момента отъезда из Англии в 1919 году в других странах Европы, на Цейлоне, в Австралии и США, неизменно обогащали его новыми впечатлениями, Однако, пожалуй, ни одна страна, в которой побывала чета Лоуренсов, не производила на писателя более сильного, шокирующего впечатления, нежели Мексика, где взаимно несопоставимые этносы, культуры, цивилизации являли свое столкновение на каждом шагу. (Примером тому — одна из лучших созданных Д. Г. Лоуренсом «книг путешествий»: «Утро в Мексике», 1927.) Духовное богатство многовекового наследия ацтеков — и удручающая нищета коренного населения; кричащие социальные контрасты — и тонущие в бюрократических передрягах попытки центральной власти погасить очаги анархического сопротивления; вековое угнетение — и дух бунта, наследие прогремевшей недавно революции и кровопролитной гражданской войны: все это представало глазам ошеломленного прозаика с яркостью киноленты, развертывающейся на ослепительно белом экране. Поражала его и радикально несходная с европейской специфика восприятия символов католицизма низами местного населения, с молоком матери впитавшего древние индейские мифы, одним из протагонистов которых было верховное божество ацтеков — творец мира и человека, владыка стихий и покровитель жречества и науки Кецалькоатль.
Читать дальше
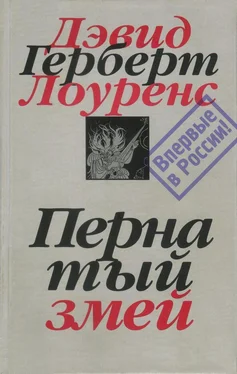

![Дэвид Лоуренс - Lady Chatterley's Lover [С англо-русским словарем]](/books/26613/devid-lourens-lady-chatterley-s-lover-s-anglo-thumb.webp)