Несколько дней тому назад, когда я снимал с себя одежду в раздевальне бани, мысли мои изменились. Банщик, который лил мне на голову воду, точно бы смыл с меня все мои черные мысли. В бане я видел свою тень на влажной, запотевшей стене: я стал таким тонким и хрупким, как десять лет назад, когда был еще ребенком. Я хорошо помню, тень моя на запотевшей стене бани была тогда совсем такой же. Я внимательно посмотрел на свое тело: бедра, голени, талия были жалкими и похотливыми.
Тень от них тоже была такая, как десять лет назад, когда я был ребенком. Я почувствовал, что вся моя жизнь, вся, как движущаяся тень, дрожащая тень на стене бани, прошла бессмысленно, бесцельно. Другие-то люди были тяжелые, крепкие, грубые, тени их на запотевшей стене бани были густые, большие и на какое-то мгновение оставляли след на ней, моя же тень скользила и очень быстро исчезала. Когда я одевался, мои движения, облик и мысли снова изменились. Точно я вступил в иное окружение, иной мир, точно я снова родился в том мире, который я так ненавидел. Во всяком случае, я снова обрел жизнь. Для меня ведь было просто чудом, что я не растворился в парной, как кусок соли в воде.
………………………………………………..
Жизнь моя казалась мне такой неестественной, непонятной, неправдоподобной, как картинка на крышке пенала, из которого я взял перо, чтобы писать эти строки… Верно, картинку эту нарисовал на пенале одержимый, соблазненный бесами художник… Обычно, когда я долго смотрю на эту картинку, она кажется мне как-то особенно знакомой. Возможно, из-за этой самой картинки… Возможно, именно эта картинка заставляет меня писать. Там нарисован кипарис, под ним сидит, поджав ноги, сгорбленный старик, похожий на индийского йога, полы халата он подвернул под себя, на голове у него повязана чалма, а указательный палец левой руки он положил в знак удивления в рот. Перед ним танцует высокая девушка в черном, движения ее неестественны, возможно, это Бугам Даси. В руке ее голубой лотос, их разделяет ручей…
………………………………………………………………..
У прибора для курения опиума я развеял все свои темные мысли, они ушли вместе с клубами нежного голубого дыма. В это время мое существо думало, мое тело видело сны, оно скользило и, точно освободившись от плотности и тяжести, летало в неведомом мире, полном неведомых красок и неведомых картин. Опиум пробуждал в моем теле растительную душу, малоподвижную растительную душу — я странствовал в растительном мире, я становился растением. Клюя носом у мангала и кожаной скатерки, накинув на плечи халат, я, не знаю почему, вспомнил вдруг оборванного старика. Он так же, как я, горбился перед своей тряпкой и сидел совсем, как я. Эта мысль вызвала у меня ужас. Я вскочил, отбросил халат, подошел к зеркалу. Щеки мои горели и были цвета туши, висящей перед лавкой мясника, борода растрепалась, но весь вид был одухотворенный и привлекательный, а глаза — усталые, обиженные, детские, глаза тяжко больного. Все земные, человеческие тяготы во мне точно растаяли. Лицо мое мне понравилось, я получил от его вида чувственное наслаждение и сказал себе перед зеркалом: «Боль твоя так глубока, что она осталась в глубине глаз… и, если ты заплачешь, слезы польются из самой глубины твоих глаз или же они даже вообще не прольются!».
Затем я снова заговорил: «Ты глупец! Почему ты не дашь выхода своей злобе? Чего ты ждешь? На что ты еще надеешься? Разве нет фляги с вином в нише твоей комнаты? Выпей глоток — и ступай куда надо! Глупец… ты… глупец… я, видно, с пустым местом разговариваю!».
Мысли, приходившие мне в голову, были бессвязны. Я слышал свой голос у себя в горле, но не понимал смысла слов. В голове моей мой голос мешался с другими голосами. Было такое ощущение, как во время сильного жара, когда пальцы на руках кажутся гораздо больше, чем на самом деле. Веки мои отяжелели, губы распухли. Когда я возвращался от зеркала, я увидел, что кормилица стоит в дверях. Я расхохотался, но лицо кормилицы осталось неподвижным. Ее лишенные блеска глаза уставились на меня, но смотрела она без удивления или гнева… Глупое выражение лица обычно вызывает особый смех. Но мой смех был глубже, чем такой. Ведь эта великая глупость тесно связана со всеми прочими вещами, о которых в этом мире не догадываются, понять которые трудно. То, что затеряно во глубине ночной тьмы. То, что выше человеческого понимания, — смерть!..
Кормилица молча взяла мангал и медленно вышла. Я отер пот со лба. Кисти рук моих покрылись белыми пятнами — я опирался о беленую стену. Я прижал голову к притолоке, и мне стало как будто лучше. Потом я стал напевать про себя песенку. Не помню только, где я ее слышал:
Читать дальше
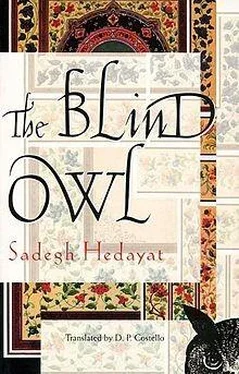

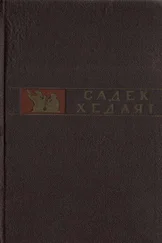
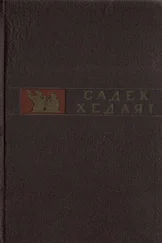
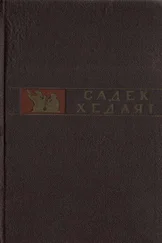
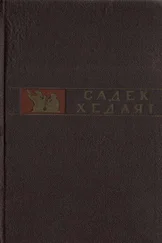


![Стэйси О'Брайен - Сова по имени Уэсли [litres]](/books/406773/stejsi-o-brajen-sova-po-imeni-uesli-litres-thumb.webp)