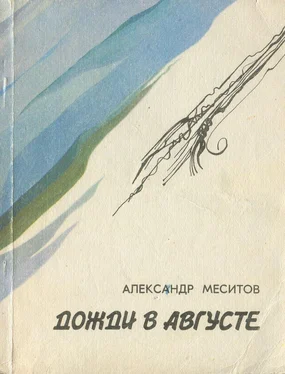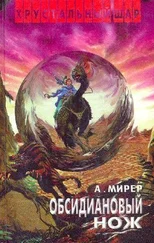Потом она встает и долго идет к черному комоду, долго выдвигает ящик.
— Я тут вот бумажку схоронила, писано тобой. Думаю, вдруг что нужное…
И протягивает двойной лист в клеточку, на котором еще школьное мое сочинение о Дубровском.
— Нужное? — спрашивает она, заглядывая мне в глаза.
— Очень, — говорю я, поспешно складывая и пряча листки в карман.
А бабушка опять копается в ящике и из-под стопки чистого белья вынимает деньги, три синенькие пятерки, и протягивает их мне.
— Возьми, — говорит она. — Хотела себе на похороны отложить, но ты возьми.
— Что ты, бабушка, что ты!..
— Не обижай, Саша, возьми…
Господи, да разве можно такое вытерпеть? Тут и у меня щиплет глаза, и я сдавленно шепчу:
— Бабуся, милая, не мучай меня, спрячь, пожалуйста, свои деньги, ради бога, спрячь…
Она со вздохом кладет пятерки на прежнее место и идет проводить меня до улицы. Я не отговариваю ее, потому что знаю — все равно не отговорю. В парадном холодно. Зимой в подъезде так удивительно пахнет снегом, его морозной свежестью, что мгновенно пьянеешь. Но сейчас не зима, а осень, и вся земля у парадного испятнана красными кленовыми листьями. Парк-то вон он, рядом. Пламенеют огромные клены, синеют темно-каменные дубы, словно россыпью медных копеечек окружены березы… Мы доходим до угла нашего корпуса, и я думаю: только бы не забыть прислать бабушке с Севера оленьи, или нет, лучше нерпичьи тапочки, только бы не забыть… Не то будут до последнего срока преследовать и мучить меня своей худобой эти восковые бабушкины ноги в больших старых калошах…
Не могу уйти сразу, не могу.
— Ты иди, Саша, я не буду плакать, — говорит бабушка, — я не буду плакать.
А сама уже плачет и тянет ко мне дрожащие руки, пытается приподняться на цыпочки, чтобы поцеловать. Я наклоняюсь к ней, и она непослушными губами припадает к моей щеке и опять шепчет:
— Я не буду, не буду плакать, Саша, только ты не бросай меня, голубчик мой! Я постараюсь не умереть эту зиму, только ты возвращайся! А теперь ступай. Спасибо тебе.
Я делаю несколько шагов, оборачиваюсь и вижу, как моя бабушка Лена, никогда не верившая в бога, мелко крестит мне спину. Я машу ей рукой и еще раз оборачиваюсь только у самого магазина, в потолке которого тщательно замазана и забелена дырка от пули. Я оборачиваюсь и вижу мою бабушку возле нашего корпуса, цепочку черных старых сараев, старый парк и перед ним поляну, заросшую крупными поздними ромашками…
Это все и есть моя родина, как принято сейчас говорить, малая родина. Я знаю, что есть места красивее и величественнее, веселей и примечательней, но мне всегда снятся эти места, и иной Родины для себя я не хочу и не могу представить.
— Как дела? (нем.).
— Спасибо, хорошо. (нем.).
Превосходно, превосходно! (нем.).