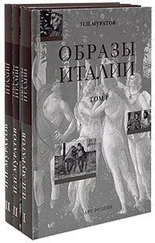«Никогда, никогда, милая дама», — повторял я, спеша на другой день в театр. Меня занимало, как скоро, с расчетливостью, свойственной этим созданиям, перенесет она свое внимание на другой, более податливый, чем я, объект. Неистовое выражение взглядов креолки смутило меня. Я читал ненависть в ее взоре, явное отчаяние по временам овладевало ею. Забыв об условностях зала, закрывала она лицо вздрагивавшей рукой. В глубине ложи я видел по-прежнему безжизненную фигуру ее компаньона. Мне оставалось думать, что он был мертвецки пьян. Его грузное тело кривилось в одну сторону, и цилиндр, в былые дни так вызывающе сдвинутый на затылок, плачевно цеплялся за краешек уха, готовый скатиться на пол.
Внезапное движение в зале заставило меня прервать наблюдения. Обратившись к сцене, я увидел клубок пламени, свившийся в листве картонных деревьев. Огонь охватил легкие ткани и сухие подмостки. Крик женщин смешался с возгласами мужчин. Опасность пожара была ничто в сравнении с той, которую создала начавшаяся паника. Не имея причин тревожиться за судьбу кого-либо из близких, я был спокоен. Я не последовал за беспорядочной толпой, устремившейся к узким дверям; скрестив руки, я наблюдал ярость пожара, уверенный, что вовремя успею ее избежать. Горела сцена, пылали ярусы. Рев огня заглушал голоса спасавшихся и погибавших. Пронзительный вопль откликнулся в моем сердце. Я вспомнил ложу Камиллы и бросился к ней. Уже загорелись ее занавески, дымился малиновый барьер, из-за которого она простирала ко мне руки. Я был подле нее, но в ужасе отпрянул назад. Ее спутник горел на моих глазах длинным веселым пламенем. Упал цилиндр его, за ним последовала алебастровая голова. На безголовом туловище лопнул туго натянутый фрак, открывая соломенную внутренность куклы. Я отступал еще и еще назад, навстречу полицейским, ворвавшимся в зал. Их предводитель указывал на креолку, спустя мгновение отделенную огненной завесой от человеческого суда.