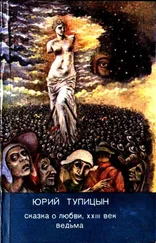На том и расстались.
«Как же не про меня?!.. – подумалось мне. – И про меня тоже».
По дороге на вокзал, на площади, я повстречал Петровича. И попивая с ним пивко под водочку в ожидании поезда, как бы между прочим спросил, чтобы упорядочить свои впечатления, хотя и так мне всё было ясно:
– Скажи, Петрович, а Андрей Соколов – не тот ли солдатик из твоей байки, что побывал в баньке в женский помывочный день?
Тот даже переменился в лице:
– Может, тот, а может, не тот. Кто их слепых разберёт?..
И вдруг взбеленился:
– Ходят тут всякие – всё высматривают, всё выспрашивают, всё вынюхивают – на честных людей напраслину возводют! Глядишь, и ославят на всю Россию! Шелкопёрые писаки – сраные! А ну-ка подь отсюда, а то палкой счас, – размахнулся он, – перешибу.
Сказал и потряс своей клюкой перед моим носом. Затем плюнул мне под ноги, забрал свою кружку с недопитым пивом и отковылял неподалёку, к свалке из ящиков, чтобы продолжить своё пиршество.
– Ну извини, ляпнул, не подумав. Ты-то как живёшь, всё о других да о других байки сказываешь? А о себе что ж? – спросил я, примирительно поднося ему новую кружку пива. – Женат ли?
– Да кто ж пойдёт за меня такого?
– Да мало ли кто?
– Нет уж, моё дело табак! Мне и так неплохо. Перебиваюсь то на свои, то на подножные. Как с хлебом, так и с бабами. Ну, бывай здоров, заскакивай, ежели что надо – подскажу.
Захмелев, подобрел он и промолвил при расставании:
– А про слепого того забудь. Враньё всё. Наговорил я, бог знает что. Нехорошо это.
«Счас, как же забуду, – подражая местному говору, подумалось мне, – раз тут такие страсти в вашем бабьем царстве разгорались и разгораются, по-видимому, и сейчас!»
Стоял душный вечер, с запада набегали чёрные тучи, изредка полыхали зарницы. И вслед за ними слышались приглушённые расстоянием раскаты грома.
– Гроза идёт, – промолвил Петрович. – Серьёзная. Шустро набегает. Так что держись – как бы огороды не посмывало сверху.
Мы посмотрели в ту сторону, что на взгорье, за танцплощадкой, где только что выстроенные добротные бревенчатые избы уже укутывались серой и влажной мглой.
И вдруг оттуда, с того же взгорья, разорвало тишину девичье многоголосье:
Средь дремучих лесов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося,
И ко мне невзначай забрело…
– Верка с подружками из клуба возвращается, – узнал певуний Петрович.
И тут же где-то рядом откликнулась другая компания:
Напилася я пьяна, не дойду я до дома…
А затем – совсем неподалёку:
На реченьке-речке, на том бережочке
Мыла Марусенька белые ножки.
Плыли к Марусеньке белые гуси…
– А это Мотина дочка… Скоро про «шумел камыш» начнётся.
– То-то ты всё знаешь, Петрович?
– Такая должность. Сколько лет живу – ничего нового, разве что на танцплощадке что-нибудь новенькое – ну, там «рио риту» услышишь или ещё чего. А так: любят у нас тут бабы пострадать. И по поводу и без оного.
– Ой, ли? В том ли только здесь дело.
– А от чего ещё?
Петрович внимательно посмотрел на меня:
– Сболтнул я тебе о слепом сдуру, а ты уж язык навострил.
И погрозил корявым пальцем:
– Смотри, ты слово дал! В общем, прощевай. И не поминай меня лихом.
Я промолчал, хотя никакого слова и ни по какому поводу ему не давал.
На том и расстались.
Вернувшись в редакцию, я сдал на первую полосу – в праздничный номер обширный фоторепортаж о творчестве Андрея Соколова, присовокупив к нему балладу «Огонь и розы». А через неделю – и очерк о молодой трактористке из той же глубинки, который начинался словами :«Валька любит вставать с петухами, когда только ещё просыпается солнце, и степь, убаюканная обильными росами, чутко прислушивается к шорохам».
И больше ни слова, ни о Петровиче, ни о его байках.
Но ещё долго, долго, долго я вспоминал эту свою поездку в ту далёкую таёжную глубинку, в которой, к сожалению, так и не побывал больше, и потому героев моих тамошних встреч больше не увидел. И всё думал: что же это за штука такая – простое женское счастье, о котором я там услышал впервые в пересказе Петровича – из Лизкиных уст? Но как ни размышлял, так ничего и не понял. И не понимаю о нём ничего до сих пор.
Впрочем, какие наши годы?! Может, ещё и повезёт – пойму.
НАТАЛИ
Матери Мира посвящается
Джон Булаткин – пятидесятитрёхлетний малый, похоронивший полтора года назад жену и не успевший обзавестись новой, или хотя бы, на крайний случай, «гёрл–френд», находился в прострации высшей степени. С Лизой он прожил двадцать пять лет и был по-своему счастлив с ней, и несчастлив – тоже.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу