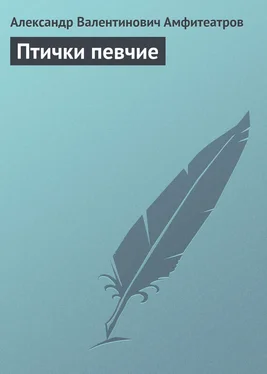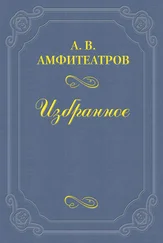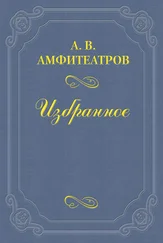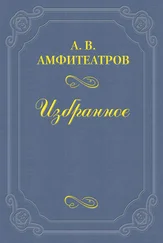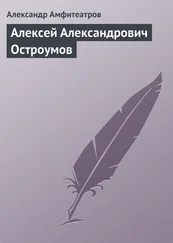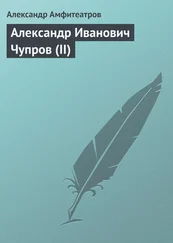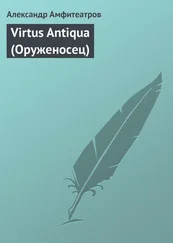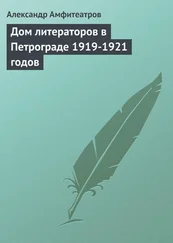Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу.
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили…
Когда европейский полуинтеллигент чувствует потребность в такого рода настроениях, он удовлетворяет ей в театрах бульварной трагедии и мелодрамы, имеющих на Западе широкое распространение. У нас нет их вовсе. За границею мне случалось видать, как публика кафе-концертов, однородных с нашими «Омонами» и «Тулонами», тоже возбуждалась исполнением «серьезных» номеров до неистовства, кричала, стучала, бисировала. Но слез я никогда не замечал, да и «серьезность» номеров была совсем другого сорта. Француз беснуется, когда поют ему о реванше, о статуе Страсбурга, о матери солдата, о маленьком барабанщике, вздернутом на прусские штыки. Чтобы пробрать немца, пойте ему «Die Wacht am Rhein» [4] «Стража на Рейне» (нем.).
, «Deutschland, Deutchland, ueber Ailes» [5] «Германия, Германия превыше всего» (нем.).
. Чтобы довести до fanatismo [6] Восторга (ит.).
итальянца, достаточно просто хорошо петь. А русскому для полного восторга подавай, среди пиршества, египетскую мумию – образ смерти и печали: пой о гробе, больнице, нищете… Хорошая эта черта нашей толпы или дурная, не берусь решать. Альфонс Додэ, строго осудивший Достоевского за Соню Мармеладову, а русских писателей вообще за «сантиментальную» страсть откапывать положительные черты в отрицательных явлениях жизни, вероятно, был бы немало сконфужен и возмущен, если бы показать ему воочию самобичующие, отравленные примесью неведомой, но тяжелой тоски удовольствия российских пшютов и падших или почти что падших женщин. У английского юмориста Джерома К. Джерома пономарь захолустного аббатства, где нет ровно никаких достопримечательностей, соблазняет проезжего юношу-туриста: «Я покажу вам могильные плиты… Одна немножко треснула, но это ничего: она все-таки очень хорошая могильная плита, и под нею хорошо похоронен настоящий покойник… А потом я покажу вам три черепа… Посмотрите на черепа! Вы молодой человек, вам надо повеселиться: ах, посмотрите на черепа!»
Турист убежал от пономаря опрометью. Любой русский кафешантан мог бы доставить этому пономарю сотни молодых людей, способных веселиться, созерцая могильные плиты и черепа.
От исполнителей чувствительных номеров не требуется ни голоса, ни умения петь. Нужна «слеза» в звуке, нужна «душа» в декламации. Я знавал многих, которые сами искренно и до слез волновались передаваемыми в их пении мрачными картинами и настроениями, и публика ценила их исполнение, дурное, грубое, полное безвкусной аффектации, выше самого изящного, самого законченного. Точно в этих убогих чувством и скудных разумом, выветренных до полной нравственной пустоты массах живет бессознательная тоска по утраченной душе – дыхании Божием; точно потребность хоть на миг почуять, какова она, эта душа, становится порою так велика, что человек, – из той же кафешантанной среды, но еще с душою, еще способный воспринимать и воспроизводить общечеловеческие чувства, – невольно становится для одичалых носителем и героем какой-то забытой правды, любимцем, полубогом. Хорошо это или дурно, опять-таки оставляю в стороне: психология толпы – дело сложное. Смотреть, как вслед за поголовным плачем о блуднице в сосновом гробу выскакивает на эстраду полунагая блудница, еще благоденствующая, и публика, только что рыдавшая, даже не хохочет, а прямо ржет на ее разухабистые цинические коленца, – довольно отвратительно. Но вместе с тем минутка мимолетной грусти как будто немного дезинфицирует удушливую нравственную атмосферу вертепов, где сцена и зрительный зал спорят между собою, – кто хуже. Я уверен, что если бы какому-нибудь Давыдову или Форесто пришла в голову мысль, спев «Пару гнедых» или «Нищую», обратиться к публике с воззванием: «Милостивые государи, в столице имеются так называемые магдалининские приюты для несчастных падших женщин, но средства приютов очень ограничены… Не дадите ли вы в их пользу, сколько кто может?» – я уверен, что посыпался бы дождь пожертвований, ни за минуту пред тем, ни минутою позже того, немыслимый и невозможный.
* * *
Час ночи. Сады кончили свою работу. В кафешантанах прошли «отделения»: сцена опустила занавес, и шато-кабак стал просто кабаком, где человеку, неохочему попасть в герои и свидетели скандала, дальнейшее пребывание неудобно. «Что ж нам делать? Не хочется спать», – и, сверх того, как будто еще и не всем успели насладиться… И вот – alea jacta est! [7] Жребий брошен! (лат.).
«Веселящаяся Москва» собирается под яровскую сень, как наполеоновская гвардия на ночной смотр. Все очутились у Яра: и клявшиеся не быть, и неклявшиеся, и храбрые на словах стоики, и робкие Гамлеты.
Читать дальше