Объяснить это очень трудно; не выходит у меня как-то. Да и как расскажешь, когда самому неясно, почему не действовал на этот раз заветный липовый цвет и всецелящий скипидар…
Где-то что-то надорвано. Все та же Италия; значит, трещину ищи в самом себе. Это я понял сразу. И. минуя города любимые, не взглянув ни на волшебную лагуну, ни на фонтан, куда бросают сольдо, чтобы вернуться, — забился в глушь, в приморскую деревушку, хотя и в ней была знакома каждая линия и каждая волна прибоя. И вот я на пляже.
Пляж знакомый: как будто даже камушки все те же, что были десяток лет назад: серые с белыми жилками, красные с рисунком, мыльца из мрамора. И шершень знакомый облетает колючие песчаные цветы, и на границе прибоя по-прежнему суетятся дафнии. Лежу коричневый и солнца не боюсь: любезна его пятидесятиградусная ласка. Вода солона и густа и держит тело. Воздух над пляжем дрожит.
Двадцать рыбаков, и молодежь, и старые, и подростки, тянут за канаты далеко в море заведенную сеть. А вытянут — груз медуз негодных да малую корзину сардинки. Сепия — уже желанное лакомство. Медуз выбросят на пляж, они будут таять, а назавтра обратятся в сухую пленку с лиловым ободком.
Рыбачку Рику я знал девочкой лет пятнадцати, и была она очаровательна. Я сделал ее тогда героиней повести; из-за нее у меня покончил с собой Бачича, носильщик нашего полустанка. А сейчас эта Рика — некрасивая, грубая, крепкая баба с железными мускулами ног. Бачичу же я видел в соседнем городке; он вышел в люди, служит в банке и носит синюю пару. Что же осталось? Осталась часовня в зелени горы св. Юлии, остались развалины церкви св. Анны на страшном обрыве, прямо над дорогой, где в последние годы прорыли новый туннель. Старую дорогу размыло прибоем. Остался еще на краю обрыва камень, служивший мне часто письменным столом.
Но не осталось прежних иллюзий. Они — а не Бачича — скатились с обрыва и упали в жидкий малахит меж серых скал.
Дети, которых знал, выросли и меня не узнали. Витторио стал коммунистом, бранит Муссолини и бреет бороду по воскресеньям. Старуха табачница умерла, но и дочь ее кажется старухой. Каким-то чудом осталась прежней только восьмилетняя Терезина. И, правда, чудо: она тоже умерла, маленькая Терезина; но ее мать родила другую Терезину, совсем такую же, с удивленными круглыми глазами, с пучком волос на голове, босоногую куклу. И ей теперь как раз восемь лет. Странно мне видеть ее: как будто десяти лет не бывало. А все сверстницы прежней Терезины — невесты и жены.
Таратайки еще бегают между соседними городами. Но пылит на нашей улице и мотор омнибуса. Я сажусь с шофером, чтобы виды были красивее. И едем мы долго, часа два и больше, по склонам гор, через местечки со знакомыми названиями, по великой красоте Ривьеры.
Перевалили через высокую гору к другому заливу. И здесь все знакомо, и здесь живал подолгу, каждый дом знал, чуть не каждый куст агавы. И цикады стрекочут с тем же жаром. И кудрявы оливы.
По святым местам воспоминаний проезжаю без радости: мне приятно здесь быть, и вижу все, и знаю, как это было прекрасно и как осталось прекрасным. Вижу, знаю и не чувствую. Корой обросло чувство. Броня российская; ковалась годами — и выковалась прочною и холодною. Отражает солнце, строжайше воспрещает вход прежней восторженности.
Быстро проносится местечко, где без ремонта, как прежде — старая и милая, стоит в окруженьи сада вилла; я жил здесь почти два года. Ее забыть — нельзя. Здесь для меня началась Италия — после стран северных. Первые розы, первую несполю, первые оливы я видел здесь. И первый горизонт моря, и по морю — матовые дорожки.
Было то в дни веры и живых иллюзий. Хотя тоже — в дни изгнания. Но тесна была тогда связь с Россией; для нее и работали мы, и жили; без нее жизнь не мыслилась. Была молодость — можно было ждать нетерпеливо, но — наверное. Не как сейчас. Была в этом своя логика; сейчас никакой логики не осталось. И времени — до старости — мало. Не потому ли нет радости?
Перебывало и переживало на этой вилле людей множество. Иных уже нет… и все далеко. Один только остался верным: живет поблизости, у того же моря, семнадцатый год. анахоретом, тружеником, в себе замкнувшись. И снег пал на голову его…
Кто где и кто кем стал — вспоминать и подсчитывать надо ли? Все спуталось, разбрелись и перекрасились люди и идеи. Тем лучше: значит, жизнь не стоит на месте. Мы без мотора, по склону гор, спустились к нижним селеньям. Отсюда Гарибальди отплыл со своей баснословной тысячей.
Читать дальше
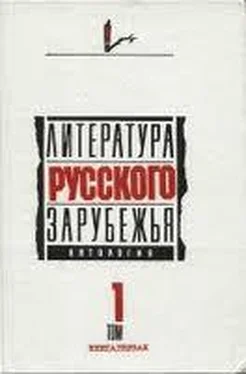


![Михаил Осоргин - Сказки и несказки [Совр. орф.]](/books/397067/mihail-osorgin-skazki-i-neskazki-sovr-orf-thumb.webp)


