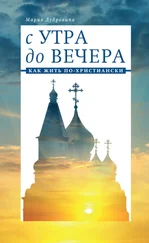Изабелла много раз пыталась корявенько дать понять профессору, что она была готова заботиться о нем на более постоянной основе. Подразумевалось, что для этого он должен был заменить неплохое жалование, которое ей платил, на пожизненное содержание, приукрасив его парой свадебных фотографий. Иногда, дабы катализировать процесс принятия нужного ей решения, она расписывала ему бытовые катастрофы, которые обязательно бы обрушились на него в одинокой старости.
Но потом ни с того ни с сего он завел кота. Изабелле это не понравилось. Во-первых, ей прибавилось работы: нужно было менять песок в кошачьем туалете, лучше вычищать диваны и ковры от кошачьей шерсти, и мыть его дурно пахнущие миски. Во-вторых, сам кот ей тоже не понравился. Он был еще более высокомерным, самодостаточным и независимым, чем его хозяин. Словно самим фактом своего существования в этом доме, кот давал ей понять, что ей здесь претендовать абсолютно не на что. То, что хозяин в силу своей воспитанности не выражал словами, кот в силу своей непринужденности выражал повадками. Только слепая, почти мистическая вера в то, что прилизанный профессор в ослепительно белых накрахмаленных трусах с дымящейся чашкой только что сваренного ею кофе в руке непременно когда-нибудь материализуется на заменившем ненавистный диван новом кресле с розовым рисунком, еще на пару лет дала ей сил не отказаться от этой безвкусной фантазии.
Но шли годы, седели и редели волосы, множились морщины, а умный профессор так и не понял, что он потерял, пока он делал вид, что не понимал её намеков. Андреа был безразличен к состоянию своего исподнего и не разделял страхи Изабеллы о старческом одиночестве. Мысли о женитьбе на ней или любой другой представительнице женской половины человечества, казалось, были также чужды ему, как мысли о секвенировании биополимеров были чужды Изабелле.
Изабелла утешала себя тем, что Лучани был безнадежным холостяком. Он отказался от личной жизни, а, значит, дело было не в том, что он стал всемирно известным ученым, а она оставалась простой консьержкой. И оставаясь ею, она состарилась, обленилась и потеряла надежду на неравный брак. Она перестала проявлять былое рвение в уходе и за домом, и гардеробом ученого, и никогда не отличавшийся особой элегантностью Андреа Лучани теперь все больше смахивал на стареющего деревенского сапожника.
Как и каждое утро, профессор Лучани переступил порог кафе «Маринетти», поздоровался с Дарио, вытирающим руки об уже не белый, но еще не очень мокрый угол фартука, взял с тумбочки у входа газету «La Repubblica» и сел за стол у окна в ожидании своих капучино и круассана с абрикосовым джемом.
Его привычка читать газету уходила своими корнями в раннее отрочество, пришедшееся на послевоенные годы. Отец, будучи убежденным коммунистом, всю жизнь выписывал газету «Unità», и когда он бывал дома в казавшихся сыну очень редкими и короткими перерывах между командировками, он страстно и предвзято комментировал и без того не совсем объективно поданные новости об очередном нелегком этапе борьбы рабочего класса за свою свободу.
Андреа обожал своего отца. Это был жизнерадостный и энергичный уроженец юга Италии, чьё присутствие наполняло дом и жизнь его обитателей веселым ритмом, и чей голос, имеющий привычку немного повышаться в начале каждой фразы, превращал в эпическое повествование даже рассказ о заурядной получасовой поездке из Салерно в маленький городок Баттипалья, где они тогда жили.
“Доброе утро, сынуля!” – радостно рявкал отец, распахивая дверь в его в комнату. Вернувшись поздно вечером, когда Андреа уже спал, он успевал за ночь развеять печали соскучившейся мачехи, и утром наступал черед сына.
“Хватит спать, отец приехал!” – от неожиданности Андреа вздрагивал, и тут же вместе с одеялом подпрыгивал в воздух, стряхивал с себя и сон, и дурман тоскливой тишины, царившей дома в отсутствие отца.
Отец был инженером-строителем. Тело, психику и память поколения, к которому он принадлежал, изуродовала война, но, уйдя, она оставила ему в наследство бесспорную ясность того, что было делом его жизни. Восстановление. Постепенно в тупиках памяти трепещущие ужасы разрушений уступали место чертежам новых проектов; натруженные за день руки засыпали в приятной пульсации, все реже сжимаясь ночью в кулаки; и радость созидания камуфлировала слезы о невозвратных потерях.
Андреа так и не понял, как этот жаждущий жизни и деятельности мужчина выбрал себе в новые жены скромную, набожную и холодную Розарию, получив с ней в приданное еще и старую деву, тетку Марию, её единственную оставшуюся в живых родственницу. Обе женщины отличались чрезмерной худобой, которая излишне подчеркивалась их мешковатыми черными платьями и гладкими прическами. В их чертах, и особенно в мимике, иногда проступали неуловимые намеки на родство; Розария была бледной темноокой красавицей с чуть крупным носом с горбинкой, и её холодность и набожность делали ее похожей на заколдованную девственницу, в то время как тетка Мария с ее чуть более крупным носом, обвислыми ушами и сильно выступающими скулами, обрамляющими темные озера кругов под глазами, казалась забывшей умереть средневековой мученицей. Тетка Мария взяла на себя всю заботу о доме, предоставляя Розарию её женским делам. Мачеха долгое время не могла забеременеть, и Андреа был назойливым свидетельством её мнимой ущербности, которую жизнь не очень спешила опровергнуть.
Читать дальше