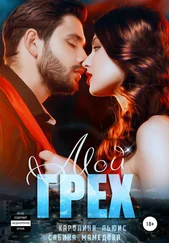Игнатья вздрогнула, перекрестила Трифона:
– Бог милостив, батюшка, гляди, то сын твой! – и снова залилась слезами, отошла в сторонку.
Старик повернулся и глянул снизу вверх на молодого юношу, его лицо искривилось, морщинки проступили еще больше, он протянул дрожащие жилистые руки и крепко пожал, ладони своего вернувшегося сына. Он не отпускал руку, жал крепко. Смотрел на сына, смотрел и сжимал руку, Иван смотрел на него и не знал, что и сказать. Он, часто живя в крепостных, представлял себе эту сцену, как он обнимет отца, как отец рад его видеть, как они обнимаются, и он вот-вот расплачется. Но все вышло иначе, глаза Ивана были сухи, он смотрел на отца и не верил, что этот уставший от жизни старик его атаман, его герой. Он смотрел на руку свою, как на чужую, и эту руку сжимали старые покривившиеся пальцы.
Трифону шел шестой десяток, атаманом он стал сразу после рождения своего единственного, но не первого сына. Он со своей женой жил долго, были у них дети двое, да все еще в младенчестве умерли. Жена его часто хворала, и когда была беременна Иваном, почти не вставала с постели последние месяцы. Трифону к тому моменту было уже лет тридцать. Потерю жены пережил он с трудом, но к жизни его вернул маленький бойкий Иван. Трифон не чаял в нем души, баловал парня разрешал все, что только тот пожелает. Часто показывал ему свое оружие, учил пользоваться им и ездить верхом, много времени проводил с сыном и почти всегда брал его с собой. О смерти матери ребеночку он не говорил, помогала ему в хлопотах по дому Игнатья Авакумова. В то утро, когда табор близко подъехал к деревне, Трифона не было дома, он отправился в ближайшее поселение за солью да крендельками для сына. Он оставил Ивана дома. До сих пор на полке в его доме стоит тот мешочек соли. Когда он вернулся, у его дома было много народу. Завидев Трифона все смолкли. Каждый боялся начать первым, да и как новость сообщить никто не знал, только сочувственно смотрели на атамана, кто-то вообще пошел восвояси. Вперед вышла Игнатия Авакумова, сообщать весть трагичную для Трифона, ей было не впервой, она была лучшей подругой покойной жены атамана, и именно она сообщила, что жена его скончалась при родах, мучать она его и в этот раз не стала, знала, что такое лучше говорить сразу прямо, как отрубая. Беду не растянешь, не отстрочишь, коли пришла, так будь храбр принять ее. Так она и в этот раз просто тихо, но прямо и твердо произнесла: «Украли мальчонку твоего, Трифон, цыгане, увезли».
Трифон, оттолкнув от себя Игнатию и бросив все, что держал в руках, побежал на конюшню. Схватив первого попавшегося коня, он запрыгнул на него и, вцепившись в гриву, помчался. Он подскочил к Игнатии, та жестом показала на поле. За ней в слезах стояла пятилетняя Сонька и неистово ревела, и только, когда подскочил атаман, она затихла.
Трифон метнулся в ту сторону, куда указала тетка, скакал он со всем напором, он не проклинал небо, не молился, он весь стал одним движением. Его несла вперед неведомая сила, скакал он долго. Лишь изредка встречая на своем пути людей, и узнавал, не видели табор. Но цыгане провалились как сквозь землю. Атаман не сдавался, он скакал день, и почти всю ночь, под утро лошадь, исходясь слюной, издохла на поле. И только там Трифон, упав на колени, стал проклинать небо, землю и всю свою жизнь! Он просил прощения у своей жены, за то, что не уберег единственного их сына. За то, что так и не открыл Ивану правды, про мать. Он плакал первый раз за всю свою жизнь, лил слезы и выл, как дикий зверь, вдалеке от людей, в глуши, на неизвестном ему поле. Он уткнулся лицом в землю, и только тело его все содрогалось. Не было его дома четыре дня, вернулся Трифон замученный, больной, угрюмый и слег. С тех пор атамана было не узнать, он все больше молчал, плечи потихоньку опускались под тяжестью нескончаемых дней. На поле брани он становился злее прежнего, и ни одному врагу более пощады не было. Казаки его побаиваться стали. Дом его всегда был пустой, кто к нему ни сватался, всех он гнал, да и гостям никогда не был рад, что потом и ходить к нему перестали. Часто его донимали соседки – мол, негоже в расцвете сил, надо бы невестку себе найти, и все своих дочерей пихали. А он все молчал, курил люльку и только еще больше отдавался службе. Жил он в полном одиночестве, никого к себе, кроме Игнатии, не пускал, да и ту редко. Так он и жил, как отшельник, только и делая, что служа родине.
И вот спустя десять с лишним лет, они встретились. И Трифон смотрел на Ивана, глядел, да не верил, что в жизни такое может случиться. Он давно его похоронил вместе с матерью, так ему было легче, чем думать, что сын вольного казака пресмыкается у какого-нибудь там дворянина, бегает, ему кофей подает, или, того хуже, стал люд развлекать на ярмарках. Он глядел на своего вернувшегося сына, и видел в его чертах жену, ее губы, разрез глаз, нос, а от отца ему достался овал лица и светлые кудрявые пряди, как были когда-то у самого Трифона. Он смотрел на Ивана, как на мираж, и только и жал руку, потому как, когда в душе человека происходят великое – слова теряют всякую силу и лишь становятся ненужной шелухой. Люди вокруг все понимали, и потому стали потихоньку разбредаться, все знали горе Трифона, и все в деревне ему сочувствовали, и в счастье его не стали ему мешать. Оставили двоих да пошли каждый в свой угол.
Читать дальше