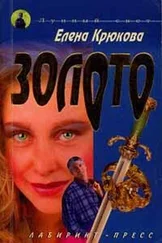Бюрен пригляделся к Рене – его раскосые глаза стали пустые, словно круглое бархатное донышко шахматной фигурки. Он был пьян, постыдно и возмутительно. Сделал в точности, что пообещал – напился и принялся делать глупости…
Как ребёнок, как мальчишка… Он совсем не умел пить, придурок Рене. Бюрен ещё терпел, когда этот фигляр принялся танцевать у костра народные шотландские танцы – чтобы доказать, что он-то настоящий шотландец, а не врун и не подделка, как, например, де Монэ. Егерь смотрел на него словно на идиота, но бог с ним, с егерем – Рене свалился, подвернул ногу, и Бюрену пришлось нести это недоразумение до палатки на плечах, словно подстреленного оленя. Рене при том брыкался, звякал браслетами и ругался на непонятном языке – наверное, доказывал миру, что умеет не только танцевать, но и разговаривать по-шотландски.
Бюрен поставил в палатку фонарь – и та озарилась изнутри, тепло и таинственно. Рене ему пришлось вносить, как новобрачную – тот не мог ступить на ногу, то ли придуривался, то ли и вправду охромел. Бюрен устроил Рене на матрасе и по одному стащил с него щёгольские инвертские ботфорты:
– Душу бы дьяволу продал за такие сапоги…
– Я и продал, ты ведь знаешь, как я живу.
– Не кокетничай, все так хотят. – Бюрен положил к себе на колени две его ноги, шёлковые, в отливающих влажной сталью чулках, и принялся их ощупывать в поисках перелома. Рене зашипел как кот, но вырываться не стал. У него были щиколотки как у других людей – запястья, такие же тонкие. – У тебя ничего не сломано, но всё-таки покажись в Москве Быдле, если не помрёшь к утру от похмелья. – Бюрен бережно убрал его ноги со своих колен. – Знаешь, Рене, ты совсем не умеешь пить.
– Увы, – согласился Рене, – что есть, то есть. После наших праздников я всегда по три дня болею…
Он протрезвел, или прежде ломал комедию – а сейчас смотрел на Бюрена разумными ясными глазами. Рене – и всё-таки не совсем Рене, другой человек, то ли сложнее, то ли куда проще, чем прежний ломака-марионетка. Этот не целовался и не кокетничал, и с горечью говорил о колючей изнанке – собственной обманчиво развесёлой жизни…
– Рене, я должен тебе сказать. – Бюрен невольно скосил глаза на его точёные щиколотки – Рене сидел, подобрав ноги, как девушка или – королевский олень. – Я немного могу тебе предложить за твою протекцию. Только дружбу. Потому что я ведь не содомит, Рене. Я не содомит, я обычный дядька, как все – с женой, и сыном, и с небольшим кредитом у своей герцогини…
– И я не содомит, – улыбнулся Рене, уголочком рта. И мотнул головой – нет, нет, – и серьги качнулись, мерцая, в крошечных розовых ушках. И всё-таки он был чуть-чуть набелен, и граница белил и ненакрашенной, нежной кожи проходила как раз возле этих беззащитно алеющих ушей.
– Ты говорил, что любишь меня, – напомнил Бюрен.
– А ещё – говорил, что я дурак. Я кого только не люблю… Одна девочка, англоманка, зовёт меня – «misguided angel», неразборчивый ангел. Моё дело пропащее, я всё время кем-то очарован, но это так быстро проходит… Я увлекаюсь, бросаю, и я люблю тебя – но я всех люблю, не бери в голову, Эрик. Кстати, может, ты знаешь ту песню:
Misguided angel hangin’ over me,
Heart like a Gabriel, pure and white as ivory,
Soul like a Lucifer, black and cold like a piece of lead…
Это по-английски, Эрик, – английский тоже мой язык… «Потерянный ангел парит надо мною, молочно-белое сердце Габриэля, свинцово-чёрная душа Люцифера…» Прости, Эрик, что напугал тебя тогда, своей любовью – нет ничего, что ты, конечно же, никакой любви, ничего нет…
Слезы задрожали в углах его глаз, но не скатились, стояли каплями, драгоценные алмазные брызги. Бюрен всегда был глуп, и слишком уж прост, и легко поддавался обаянию момента, и поэтому, наверное, он сделал то, что сделал – потом угрызался, конечно…
Он сказал:
– Жаль, – о том, дурачок, что Рене его не любит. И протянул руку, и кончиками пальцев качнул в ухе Рене длинную, таинственно мерцающую сережку. И погладил – горячее красное ушко, и волосы, упругие и нежные, словно птичьи перья или же – перья гиацинта. И продолжил глупость дальше, не в глаза ему глядя – на бледные ненакрашенные губы: – Ты больше меня не целуешь, а я только-только набрался храбрости – чтобы тебе ответить…
– Нас видно, как в театре теней, – прошептал Рене, вывернулся из-под его руки, змеино выгнулся и одним выдохом задул свечу в фонаре.
Темнота, глубокая, бархатная, внезапная – решительно взяла Бюрена в свои руки, но тотчас же две другие бархатные руки, в нежно звенящих браслетах, обвили его шею, и тёплое, медовое, шёлковое, бестолковое, порывистое раскосое создание шальной птицей влетело в его объятия, и мягкий кончик носа, и нежные губы – уткнулись в шею, с каким-то сбивчивым жарким шёлковым шёпотом.
Читать дальше