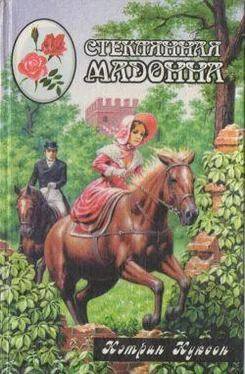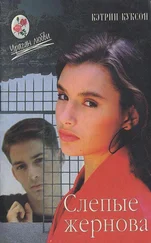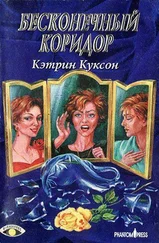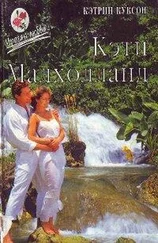Никогда прежде она не видела иных частей человеческого тела, кроме лица, рук и ног. Даже собственного тела ей не доводилось видеть, потому что Уотфорд, сняв с нее платьице и верхнюю юбку, надевала ей на глаза повязку и только потом снимала остальное, а утром тоже надевала повязку, прежде чем снять ночную сорочку. Старая Элис показала Уотфорд, как это делается. Девочка уже не помнила, с какого возраста стала одеваться и раздеваться таким образом, но запомнила, как старуха давала урок новой няньке. Столь же сложно было обставлено купание. Часть ее естества протестовала против ослепления, предшествовавшего раздеванию перед омовениями, при пробуждении и отходе ко сну, однако она не осмеливалась возражать вслух, потому что такой бунт казался ей грехом – непонятно против чего. Пока что она не разобралась во всем этом толком. Чувство греха лежало на ней тяжелым грузом и пугало среди ночи, когда она, запуская порой руки под рубашку, проводила вдоль своего живота и трогала место, откуда растут ноги.
Как завороженная, она двинулась вдоль стены, пока не замерла перед картиной, на которой были изображены девочка, стоящая на коленях, и женщина, закатывающая рукава. Обе фигуры были на картине второстепенными, но внимание Аннабеллы оказалось приковано именно к ним, потому что она увидела в девочке себя, а закатывание рукавов расценила как готовящееся наказание за грехи. Девочку ждала порка – за то, наверное, что она, подобно Аннабелле, смотрела на женщину в центре картины. Женщина растянулась на белом ложе; у ее ног была изображена собачонка. На этой женщине тоже не было одежды, однако по ее облику нельзя было заключить, что она боится греха: напротив, она выглядела совершенно счастливой. Аннабелла подошла к картине вплотную и прочла на табличке: «Венера из Урбино». Кто такая Венера? Видимо, так зовут даму без одежды. А Тициан? Она двинулась дальше. Под другими картинами тоже значилось «Тициан», и она смекнула, что так звали человека, изобразившего всех этих дам. Видимо, он был великим грешником, подобно некоторым персонажам Библии.
Выйдя на середину комнаты, она осмотрелась. Здесь было не так просторно, как в гостиной Дома, однако почему-то приятнее, теплее, хотя стены вокруг окон и камина были сложены из грубого камня. Непонятно, почему накидки закрывают мебель, а не картины? Она полагала, что должно быть наоборот, и пребывала в недоумении.
Потом до нее снова долетел приглушенный отцовский смех, заставивший ее медленно двинуться обратно в холл. Здесь тоже висели картины, но на них были изображены сплошь люди в синих и красных мантиях, вросшие в кресла. Только на одной картине изображалась битва всадников, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что всадники преследуют дам, на сей раз одетых.
Она уже порядком продвинулась по холлу, когда вспомнила, что ей запрещено здесь находиться. Мать предостерегала ее: никогда не заходи за дубовую дверь! «Аннабелла, – говорила она, – тебе туда нельзя. Слушай меня: не смей заходить в папин дом никогда!» Девочка ответила: «Хорошо, мама. – Но смело добавила: – Но если папа сам меня туда приведет, то это не будет непослушанием?» Глядя в сторону, мать ответила: «Папа тебя туда не приведет. Тот дом принадлежит взрослым людям: папе и его друзьям. Он придерживается того же мнения, что и я: ему нежелательно, чтобы ты бывала в его личных покоях. И вообще, – сказал она напоследок, – разве тебе не хватает папы здесь?»
В том-то и дело, что ей его не хватало! Сейчас инстинкт предостерегал ее, что отец будет недоволен ее появлением в то время, когда он развлекает друзей.
Она уже собиралась броситься назад, к дубовой двери, чтобы благополучно просочиться в галерею, но тут заметила Константина. Он нес поднос со столовым серебром; стоит ему хотя бы чуть-чуть повернуть голову – и он ее увидит. Она не поняла, в каком направлении он шагает – к ней или от нее, но в ужасе шарахнулась к двери слева и, забившись в нишу, замерла. Ее рука сама по себе легла на дверную ручку и медленно повернула ее. В следующую секунду она очутилась внутри и опять широко разинула рот.
Она попала в спальню, восхитительную спальню – видимо, отцовскую. В центре стояла кровать под балдахином с задернутыми голубыми шелковыми занавесочками. Ковер на полу тоже был голубой, а мебель позолоченная, с розовой обивкой. Красота была неописуемая. Разве отец запретит ей любоваться такой красивой спальней?
Приблизившись к кровати, она увидела рядом на полу большую белую простыню, на ней стояла ванна из фарфора. Она тоже была накрыта простыней, через которую медленно поднимался пар. Только сейчас она осознала то, что следовало бы осознать с самого начала: все окна в спальне были задернуты шторами, и свет давали два хрустальных канделябра, в каждом из которых горело не менее двадцати свечей; канделябры стояли на столиках по обеим сторонам от изголовья кровати. Получалось, что и отец принимает ванну в потемках, хотя и не в таких кромешных, как она. Не исключено, однако, что Константин гасит все свечи, прежде чем отец начнет разоблачаться. У нее душа ушла в пятки. Скорее прочь! Если отец, вознамерившись принять ванну, застанет ее у себя в спальне, он сильно рассердится.
Читать дальше