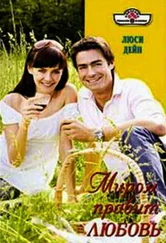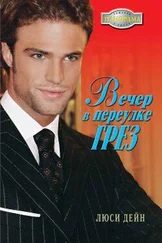«Я воскресение и жизнь, возгласил Господь, верующий в меня и после смерти своей…»
В толпе, заполнившей палубу «Джоржетты», почти никто не двигался. Все слушали слова погребальной службы; людей, казалось, заворожило бесстрастное спокойствие голоса капитана. Лишь наиболее любопытные проталкивались вперед, чтобы лучше рассмотреть сверток из парусины, зашитый суровыми нитками и слегка прикрытый британским флагом.
Дело происходило июньским днем 1792 года. «Джоржетта» — двухпалубное судно с шестьюдесятью четырьмя пушками на борту, принадлежавшее Ост-Индской компании, — десять дней назад покинуло Рио и направлялось в Кейптаун. После Кейптауна, согласно приказу, должно было повернуть на юг, в Антарктический океан, а затем, взяв восточнее, следовать курсом, которым до него шли лишь несколько кораблей. Пунктом назначения было поселение, основанное четыре года назад на берегу Порт-Джексона, в новой колонии Южного Уэльса. В то время оно почти не было известно под своим нынешним именем Сидней; а названием, которое гремело во всех судебных залах и тюрьмах Англии, было Ботани-Бей. Это поселение было страшным местом, предназначенным для размещения лиц, которых не могли вместить тюрьмы метрополии: оно являло собой тюрьму, бегство из которой было невозможно, а надежда хоть когда-нибудь вернуться в Англию — напрасной. «Джоржетта» предназначалась для перевозки узников, и мысль о Ботани-Бей сверлила мозг почти всех, кто молча слушал речь капитана.
«Человек, рожденный женщиной, недолго пребывает на земле…»
Эти люди, окружавшие прикрытую флагом парусину, представляли странное зрелище. По всему судну — на верхней палубе, на юте и на полуюте — были расставлены в четком порядке босоногие и грязные члены команды; лица их, как и полагалось, отражали торжественность момента, хотя этот парусиновый сверток совершенно ничего для них не значил. Один или два, ради торжественности момента, заплели свои жирные волосы в косички, что придало им гораздо более благообразный вид по сравнению с их товарищами. Все они были немыты, что мог уловить не только глаз, но и нос.
Четыре офицера, штурман, помощник и шестеро гардемаринов стояли в строгой шеренге позади капитана. Корабельный врач занял свое место в конце шеренги, всем своим видом давая понять, что не принадлежит к этой иерархии, ибо не является, подобно им, настоящим моряком. На каждом лице было то же застывшее выражение, которое отражалось на лицах команды: глаза устремлены на горизонт, который наклоняется в такт покачиванию судна; фигуры застыли по стойке «смирно». Слова погребальной службы долетали до их невнимательных ушей: они уже слышали все это много раз; только на гардемаринов, достаточно молодых и неопытных, эта церемония могла произвести сильное впечатление. Самый младший из них, паренек четырнадцати лет, впервые вышедший в море, время от времени бросал тревожные взгляды на парусину. На остальных лицах читалось терпение и примирение с монотонностью жизни, в которой есть борьба и смерть, к чему их приучило долгое медленное морское путешествие.
Позади офицеров и немного в стороне от них стояли мужчина, женщина и двое детей. Они стояли тесной кучкой, выглядели смущенно, как будто понимая, что их служанка, чье тело покоилось под флагом, не имеет никакого отношения к команде; она была простой женщиной и не запомнилась этим людям, которые, возможно, проходили мимо нее десятки раз на дню. Ветер трепал длинные яркие юбки женщины и ее юной дочери, играл кистями их шалей. Краски и игра этих мягких тканей придавали некоторую фривольность картине, сложенной из строгих прямых линий.
Ссыльные стояли сами по себе, в отдалении, четко отделенные от остальной толпы на палубе «Джоржетты» вооруженными стражниками. На борту «Джоржетты» было двести семь узников — пестрая мешанина из человеческого груза, помещенная внизу, в темноте между палубами, с безнадежностью ожидающая прибытия в Ботани-Бей. Они выглядели мрачно покорными, когда над их головами глухо звучали слова погребальной службы. Но головы продолжали вертеться, глаза блуждали по мачтам и такелажу над головами, тянулись к бескрайнему горизонту. Они постоянно моргали на ярком свете, морской и небесный просторы вызывали резь в глазах, которые видели в течение целых недель лишь темные от времени и сырости деревянные переборки. Ветер беспощадно трепал лохмотья, в которые они были одеты. Они представляли собой дикое зрелище, как мужчины, так и женщины: длинные волосы, спутанные и грязные, падали на нахмуренные лбы; их сощуренные глаза были исполнены ярости и лишены даже тени раскаяния. На их ногах вряд ли можно было найти хоть одну пару целых сапог или туфель, и в своих развевающихся на ветру лохмотьях они казались огородными чучелами. Они переминались с ноги на ногу, наслаждаясь возможностью размять затекшие члены и наполнить легкие свежим воздухом.
Читать дальше