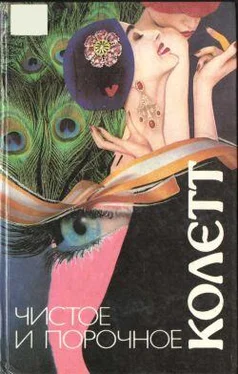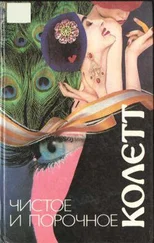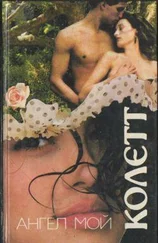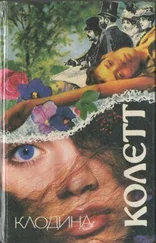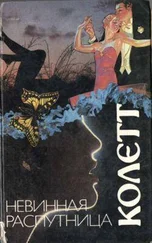– Прекрасна, как демон! Прекраснее демона! – сказал ей Ален.
Он хотел её погладить по широкой голове, где роились кровожадные замыслы, но кошка внезапно укусила его, давая выход своему раздражению. Ален взглянул на две капельки крови с тем досадливым чувством, какое овладевает мужчиной, укушенным любовницей в минуту наивысшего блаженства.
– Скверная!.. Скверная!.. Посмотри, что ты сделала…
Опустив голову, она понюхала кровь и боязливо взглянула в лицо своего друга. Зная, как развеселить или тронуть его, она взяла со стола сухарик и принялась грызть, держа на беличий лад.
Майский ветерок овевал их, клоня куст жёлтых роз, пахнущих диким терновником. Рядом с кошкой, розами, порхающими попарно синицами и последними майскими жуками Ален вкушал мгновения, времени неподвластные, во власти смятенного чувства, будто заплутался в детстве. Вязы вознеслись вдруг ввысь, аллея раздалась, нырнула под оплетённые засохшим виноградом полукружия беседки, и тут, подобно спящему, падающему в страшном сне с вершины башни, Ален пробудился к сознанию своих двадцати четырёх лет.
«Нужно было бы поспать ещё часок, сейчас только половина десятого, воскресенье. Вчера у меня тоже было воскресенье. Слишком много воскресений… Но завтра…»
С видом сообщника он улыбнулся Сахе. «Завтра, Саха, окончательная примерка белого платья. Без меня. Сюрприз. Со своими чёрными волосами Камилла будет красивее в белом… А тем временем я погляжу машину. Родстер – конечно, малость барахляная, жмотская коляска, как выражается Камилла… Но что поделаешь! Ведь мы такая "молоденькая парочка"!»
Взмыв вертикально вверх подобно рыбе, выскочившей из глубин на поверхность, кошка схватила бабочку плодожорки с чёрной оторочкой, съела её, закашлялась, выплюнула крыло, принялась картинно вылизываться. Ее мех, лиловый с синим отливом, как грудь лесных голубей, – отличительный признак кошек породы «шартре» – искрился в лучах солнца.
– Саха!
Она повернула голову и откровенно улыбнулась ему.
– Моя маленькая пума! Золотая моя кошечка! Зверушка с горных вершин! Как ты будешь жить, если мы расстанемся? Хочешь, уйдём вдвоём в монастырь? Хочешь… Уж и сам не знаю…
Внемля ему, она глядела нежно и рассеянно, но, когда голос друга дрогнул сильнее, отвела глаза.
Он умолк и омрачился, вспомнив, что говорил недавно сильный, звучный девичий голос, далеко разносившийся на вольном воздухе, самоуверенно раскатывавший гласные «а» и «о», умело расхваливающий достоинства родстера: «А когда опускаешь ветровое стекло, просто с ума можно сойти! На полном ходу кожу на щеках отдувает к самим ушам!»
– Представляешь, Саха? Отдувает к самим ушам! Ужас!..
Он сжал губы, лицо его вытянулось, как у несговорчивого мальчишки, в совершенстве овладевшего искусством притворства.
– Это ещё как сказать! А если мне больше нравится машина с откидным верхом? Имею я право голоса или нет?
Он смерил взглядом куст жёлтых роз, точно это была обладательница красивого голоса. Вновь дорожка раздалась, вязы выросли, засохшие лозы беседки позеленели. Спрятавшись в юбках двух-трёх кичливых, задравших нос до небес родственниц, маленький Ален посматривал настороженно в сторону другого тесно сгрудившегося семейства, где среди взрослых сияла девочка с очень чёрными волосами, чьи широко распахнутые глаза соперничали в своём кристаллическом блеске с ниспадавшими длинными локонами волосами. «Поздоровайся же… Почему ты не хочешь поздороваться?» Тихий голос из давнего прошлого, сбережённый сквозь годы детства, отрочества, ученичества, скучной службы в армии, напускной важности, мнимой осведомлённости в торговых делах. Камилла не желала здороваться. Втянув щёку в рот, она приседала угловатым и куцым девичьим движением, изображая реверанс. Вспоминая эту пору, она называла тот реверанс «вихляйчиком», но по-прежнему прикусывала себе щёку, когда злилась. И, странное дело, это не портило её.
Он усмехнулся и, как всякий жених, испытал волнение при мысли о невесте, довольный, в сущности, тем, что обрёл в ней здоровую, хотя несколько заурядную в проявлениях своей бурной чувствительности девушку. Этим чистым утром он вызывал в воображении образы, которыми то подстёгивал своё тщеславие и нетерпение, то поселял в своей душе опасения и даже страх. Когда покой сошёл на него, он обнаружил, что солнце чересчур бело, а ветер сух. Кошка исчезла, но, едва Ален встал на ноги, оказалась подле и пошла рядом с ним длинными шагами лани, не наступая на круглые розовые камушки, устилавшие аллею. Вдвоём они и пришли на место «работ», с равным недоброжелательством взирая на кучу мусора, новенькую дверь без стёкол, вставленную в стену, на аппараты для гидротерапии и кафельные плитки. Равно оскорблённые, они прикидывали на глазок разрушения, произведённые в их прошлом и настоящем. Выкорчеванный старый тис очень медленно умирал, опрокинувшись вниз головой и завесившись волосами корней. «Ни за что, ни за что на свете я не должен был допустить такое, – шептал Ален. – Это гнусность. ТЫ. Саха, знала этот тис всего три года, но я-то…»
Читать дальше