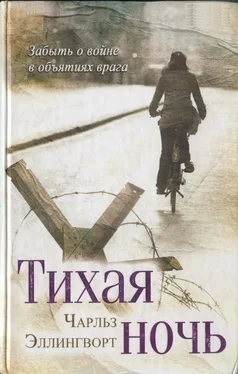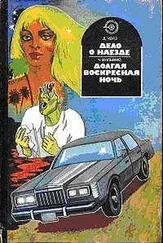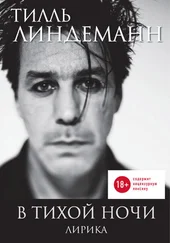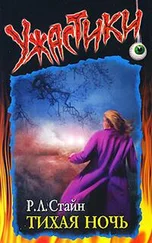Жером сел на табурет и принялся стаскивать ботинки, а Мари-Луиз сидела перед ним на полу, окруженная со всех сторон ванильно-сырным запахом давным-давно нестиранной одежды. Когда Жером остался обнаженным, она с материнским негодованием осмотрела язвы импетиго и шрамы — следы его голодного плена. Тело мужа всегда представлялось ей сексуальным и полным жизни, но эта истощенная плоть вызывала скорее жалость, чем желание.
Держа ее за руку, Жером шагнул в ванну и лег на спину, закрыв глаза и позволив горячей воде плескаться над его телом. Мари-Луиз медленно вылила ему на голову кувшин и стала втирать мыло в волосы и водить губкой по спине, чувствуя, как он расслабляется под давлением ее массирующих пальцев.
Она взбила пену для бритья и держала зеркало, пока Жером осторожно сбривал бороду, открывая лицо, которое она помнила. Худой как спичка, с впалыми щеками — но это все-таки был ее муж, вернувшийся, вопреки всему, с войны домой. Жером стоял неподвижно, как ребенок, пока она вытирала его колючим полотенцем, промакивая пах жестом няньки, а не любовницы. Мари-Луиз представляла, что их воссоединение станет мощным извержением накопившихся за пять лет желаний, после которого Жером будет долго сжимать ее в объятиях, обмякая внутри нее. Дойдет черед и до этого. Она подала мужу вещи, и он прижал их к носу, вдыхая запах мыла и камфары.
— Еда. Ванна. Теперь постель?
И снова как нянька, Мари-Луиз повела его наверх.
Монашескую скромность ее комнаты разбавляли редкие штрихи женственности — шляпа с полинявшей лентой, висящая на зеркале в оправе из розового дерева, мамин шелковый халат, свисавший с деревянного гвоздика, и ветка цветущего терна в примитивной вазе. Побеленные стены… Жером позволил Мари-Луиз расправить покрывало и послушно улегся в кровать.
— Посиди со мной немного. Пожалуйста.
Мари-Луиз села на край постели и взяла в руки ладонь мужа, а он принялся мозолистым большим пальцем водить по венам на тыльной стороне ее ладони.
— Мне нужно многое тебе рассказать.
— И мне. У нас море времени. А пока спи — как можно больше.
Мари-Луиз почувствовала, как его рука ослабла и под ее указательным пальцем застучал его пульс. От влажных волос Жерома на подушке появились пятна, образуя нимб вокруг знакомого, но давно не виденного лица. Мари-Луиз заметила, что уголки его рта обмякли, как бывало бесчисленное количество раз, когда она наблюдала за ним по утрам. Снизу послышалось нытье Филиппа, но Мари-Луиз не обращала на него внимания, пользуясь возможностью смотреть на мужа и не встречать в ответ вопросительных взглядов. Во сне его лицо казалось не таким утомленным. Без грязной подводки черты выглядели более мягкими, но перед ввалившимися щеками и хмурыми складками на лбу мыло оказалось бессильным. Жерома не было дома пять лет — но он постарел на десять. Волосы на висках поредели. Худоба скрадывала чувственность его губ и придавала повзрослевшему лицу более благородное выражение. Мари-Луиз вспомнились их поцелуи и то, как эти самые губы колдовали у нее под животом, пока она запутывалась пальцами во влажных волосах мужа. Более настойчивый крик снизу вывел ее из задумчивости, и она покинула спящего, тихонько прикрыв за собой дверь.
Рассеянно занимаясь Филиппом, Мари-Луиз прокручивала в голове предыдущие несколько часов. Что рассказать Жерому? Когда? Как? Как он на это отреагирует? Близость, которую они только что ощутили, могла быть последней — и теперь вместо доверия между ними будут взаимные обвинения и горечь предательства. Мари-Луиз затрагивала эту тему с отцом в последние дни войны, когда возвращение Жерома стало вполне вероятным. Она говорила, запинаясь, не находя слов от смущения.
Отец несколько минут размышлял над ее проблемой.
— Подожди, — сказал он. — Подожди, пока он освоится.
— Но тогда мне придется лгать, папа, лгать.
— Ну и что? Мир построен на лжи. Вообрази, какая начнется резня, если все вдруг станут говорить правду.
Сначала Мари-Луиз показалось, что отец говорит глупости, но, поразмыслив, она оценила мудрость его слов.
— А потом?
— Не знаю. Тебе решать. Если ты не станешь ни о чем рассказывать, то ничего не потеряешь, верно? У всех есть свои маленькие секреты. Я всегда думал, что правдивость, особенно в неумелых руках, — это добродетель, которую переоценивают. Правда — это блюдо, которое лучше подавать под соусом и со специями, чтобы замаскировать не слишком аппетитные ингредиенты. Признаться Жерому — значит поставить на карту все. Но в этом нет необходимости, не так ли?
Читать дальше