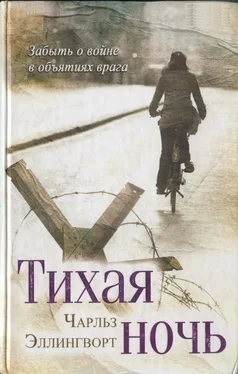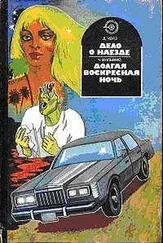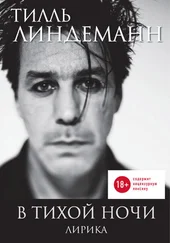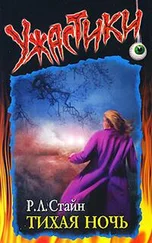Отец посмотрел на нее, явно тронутый болью в ее голосе.
— Я слышал. Я подозревал, что подобное может случиться. Что они сделали с бедной девочкой?
— Обрили ей голову. Плевали в нее. Это было отвратительно. И самое страшное, папа, в том, что я ничего не сделала. Я учила эту девочку. Она почти ребенок, а я смотрела и бездействовала. Вот это освобождение!
В ее голосе прозвучали горечь и злоба.
— Милая моя, такова толпа, — качая головой, ответил отец. — Она отвратительна. Вспомни, что творилось во Франции, когда у руля стояла толпа: Террор, Коммуна — варварство и кровавая резня. Анонимная жестокость легче сходит с рук; а людям нравится жестокость. За ближайшие несколько дней и недель наломают дров эти… патриоты. — Каждое его слово сочилось презрением. — Я обречен стать мишенью. А может быть, и ты. Мне жаль. Ты этого не заслуживаешь. Слава Богу, что ты съездила…
Он запнулся, смущенный тем, что чуть не затронул тему, которую они не поднимали три года.
Мари-Луиз вернулась из Онфлера через месяц после родов. Кормилица забрала младенца сразу после того, как ему перерезали пуповину, не позволив матери ни подержать ребенка на руках, ни запомнить его запах. Мари-Луиз несколько дней пролежала в спальне, слизывая молоко с набухших и ноющих грудей и борясь с убийственной тоской. Бабушка навещала ее три-четыре раза в день. Они поменялись ролями: пожилая леди сидела на краю кровати в расшитом халате, а внучка, неспособная озвучить свои страдания, смотрела в потолок, позволяя слезам стекать по лицу. Старшая женщина держала младшую за руку и зачастую не говорила ни слова, за что последняя была ей благодарна, ибо присутствия бабушки и ее безмолвного сочувствия было достаточно.
Несколько дней Мари-Луиз чувствовала, что проваливается в вату нервного срыва, в отрицание душевных страданий. Она парила в бестелесном спокойствии, отлученная от ноющей боли горя.
Когда ее тело оправилось от гормонального штурма, Мари-Луиз начала понемногу есть и вместе с тем стала постепенно окунаться в мир двойственности, где одна ее половина была способна вернуться к прежней жизни, а другая вела скрытую битву с горем и чувством вины.
Мари-Луиз позволила бабушке ступать по этим сокровенным землям, зная, что здесь она может быть проводником, штурманом, который не позволит ей напороться на рифы безумия. Именно Изабелла Герлен научила внучку прятать горе в мысленную шкатулку и открывать ее только в осмотрительном одиночестве, давать волю ее содержимому, лишь когда это безопасно, когда можно барахтаться в нем, не потерпев крушения. Сблизившись с этой великодушной и эксцентричной женщиной, Мари-Луиз полюбила ее, и старушка отвечала ей со всей силой последней любви. В день возвращения в Монтрёй, когда снаружи радостно танцевали цветущие ветви, а внутри скребли лапами и чирикали попугаи, они с бабушкой долго обнимали друг друга в тишине, не пытаясь сдерживать всхлипывания или утирать слезы.
Вернувшись в школу, Мари-Луиз выглядела как прежде, только стала более худой — перемена, оставшаяся незамеченной на фоне серьезной нехватки продуктов, а также холодного эгоизма и скупости духа, которые сопутствовали голоду. Некоторые отмечали ее новую способность превращать лицо в неподвижную маску, тогда как раньше в нем, как в зеркале, отражались самые потаенные мысли.
Кроме Жислен, у Мари-Луиз никогда не было близких друзей. Ходили слухи, что их больше не видят вместе, но никто не называл настоящей причины, из чего Мари-Луиз с благодарностью сделала вывод: прошлой дружбе по-прежнему отдается дань. Они с Жислен виделись — в маленьком городе нельзя было иначе, — но при встрече просто обменивались любезностями и старались обходить друг друга десятой дорогой.
Отношения с отцом тоже изменились. Исчезли сарказм и деспотичное пренебрежение. На смену им пришла не нежность, но забота и обходительность, которыми отец раньше окружал ее мать. Мари-Луиз поразмыслила над этой метаморфозой и поняла, что с переменой политического ветра он тоже оказывался во все бОльшей изоляции.
Вскоре после ее возвращения немцы оккупировали всю Францию. Претензии Виши на право называться голосом независимой Франции так и остались претензиями, а промахи и низменность режима проступили во всей его неприглядности. Мало того, что военнопленные остались в Германии, потребность в рабочих руках на фабриках Рейха стала, будто сквозняки, засасывать молодых мужчин и женщин, которых в качестве рабов депортировали в города, начинавшие страдать от разрушительных налетов союзной бомбардировочной авиации. В более диких, лесистых частях Франции многие сбегали в макИ [130] МакИ — партизанское движение, отряды которого первоначально состояли из мужчин, бежавших в горы, чтобы избежать призыва в фашистские трудовые отряды.
, но в прилизанных городских районах молодежь со страхом ждала ежемесячных списков с именами отобранных. Еды становилось все меньше, топлива было не достать, и даже привилегированные люди со связями худели и нищали. Запасы альтруизма исчерпались, а сострадание стало большой редкостью в мире, озабоченном отсутствием предметов первой необходимости.
Читать дальше