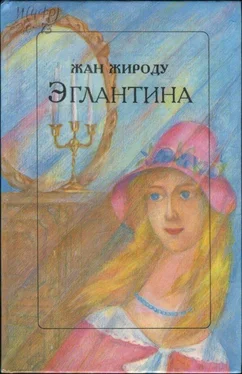Впоследствии нам придется весьма часто иметь дело с Шартье, так что пора представить его читателю. Процветание Моиза объяснялось тем, что в отличие от других банкиров или государственных мужей, почитавших для себя оскорблением держать служащих умнее их самих, он всегда набирал в помощники людей блестящего ума. Шартье появился на свет в Амбуазе, то есть на южной оконечности Иль-де Франс [9] Иль-де-Франс — Парижский регион.
, в тех местах бывшего французского королевства, куда наши короли и герцоги в старину добирались каретами за день (как сейчас нужна ночь, чтобы добраться до Ниццы) и где они строили себе загородные домики под названием Шенонсо или Шамбор [10] Шенонсо, Шамбор — великолепные замки в долине Луары.
. Подобно многим своим соотечественникам, Шартье обладал всеми славными качествами южан — пылким воображением, оптимизмом, красноречием, но у него эти черты отличались тонкостью, свойственной жителям не юга Франции, а именно юга Иль-де-Франс. Парижский образ мыслей на Турский или Амбуазский манер, — вот что понравилось Моизу в этом человеке, сочетавшем в себе глубокомыслие с внешним легкомыслием и серьезность с жизнерадостностью. Он ценил в Шартье то удачное сочетание ума и скепсиса, фатализма и человеческого достоинства, которое вполне типично для обитателей Иль-де-Франс, тогда как сияние вечнолазурных небес и обилие овощей на Средиземноморье неизбежно превращают оптимизм провансальцев в нечто совершенно несуразное. Словом, любимой Ривьерой Моиза была та, что соединяет Ансени с Шиноном… Франция — единственная страна в мире, чье будущее всегда точно уравновешено ее прошлым, но вряд ли кто-нибудь, кроме обитателей Иль-де-Франс, способен видеть оба эти горизонта, и минувший и грядущий, на равном от себя расстоянии и вносить во все свои дела это тонкое понимание приятной нескончаемости бытия. Суждения Шартье, именно потому, что над ним не довлели ни самодовольство, ни страхи выскочки, почти всегда облекались в точно подобранные, остроумные и в высшей степени беспристрастные слова, даже когда речь шла о женщинах или о времени. Его обязанности были сугубо конфиденциальными. Если в банке Моиз держал свою знаменитую спецслужбу, где велась картотека на всех представителей делового мира, то в личной жизни он, напротив, любыми средствами избегал доносов и разоблачений, а потому и поручил Шартье ограждать его — не от правды, но от лишней информации. В результате за последние десять лет большинство тайн Моиза так и осталось тайнами для самого Моиза: вместо него Шартье поглощал их, переваривал, стойко выдерживал объяснения и скандалы, где на свет божий всплывали воровство, ненависть и подпольные аборты, завладевал всей поступавшей корреспонденцией и допускал к своему хозяину лишь идеальные подобия его подруг, очищенные от яда, досмотренные сердечной полицией, почти безобидные. И только в конце года, подписывая отчет Шартье о понесенных расходах, Моиз по размерам суммы мог оценить истинные размеры пороков и предательств, скрыто бушевавших вокруг него. Он знал, что доносы на его новую знакомую не замедлят себя ждать, и, предупредив об этом Шартье, стад передавать ему все подозрительные конверты, а сам наконец вздохнул спокойно…
Однако ему пришлось опасаться совсем другого: как бы разоблачение не пришло из уст самой его подруги. Однажды вечером, услышав фразу сидящей рядом посетительницы, в которой та поведала почти всю свою жизнь: «Я родилась в Лангре 29 августа 1890 года…», она с улыбкой взглянула на Моиза и начала:
— А я…
У Моиза тоскливо сжалось сердце. Вот сейчас название города, дата и год рождения заклеймят ее каленым железом, точно преступницу. И она присоединится к сонму обыкновенных женщин… Боже, какой ужас! Но тут она договорила:
— А мне двадцать лет.
Трудно было подобрать более идеальное инкогнито. Моиза до глубины души тронуло это скупое признание, которое по счастливой случайности еще надежнее укрыло ее. На самом же деле вмешался не случай, а инстинкт: Эглантина уже собиралась назвать место своего рождения, сообщив Моизу: «А я родилась в Фонтранже 3 ноября 1900 года», но что-то остановило ее. А ведь она, как никто, была склонна откровенничать, и любой приятель, задавший три-четыре вопроса, уже знал бы всю ее жизнь. Так, пару месяцев назад она поведала ее одной случайной знакомой, молодой женщине, которая поклялась ей в вечной дружбе и тут же бесследно исчезла. Но Эглантина каким-то чутьем угадывала, что залог этого ее романа — в молчании, в неизвестности. Что ж, разве это трудно — ежедневно на два часа становится никем? Та, что узнала все три ее крестных имени, насмеялась над ней. Та, что узнала о смерти ее родителей, не написала ей ни строчки. Та, что узнала, как красиво у них в Шампани, канула в небытие. И раз уж судьба даровала ей — сперва с Фонтранжем, во тьме спальни, а теперь с этим тучным господином в ярком свете прожекторов и под гром двух оркестров — такое убежище вне времени, такой отдых вне привычного общества, такое счастливое состояние свободы, Эглантина с благодарностью принимала этот дар и не требовала большего. Она и не думала анализировать свою привязанность к двум мужчинам, которые, обладая несметными богатствами, удерживали ее в этой безымянной стране. Избалованная благоволением Фонтранжа, Эглантина сейчас даже не понимала, что обманывает его, настолько упрочилась она в тех заповедных владениях, куда он впустил ее. Будучи простого и скромного нрава, она не осознавала, что для подобного образа жизни требуется никак не меньше, чем миллиардер — или последний из нищих, — и приписывала блаженное состояние безопасности, уверенности, приходящее обычно в атмосфере миллиардов или сказки, почтенному возрасту обоих своих друзей. Вера в счастье, желание надежности вполне естественно привлекали ее к тем из людей, кого она с самого своего детства помнила неизменными, — иначе говоря, к старикам. Они и только они казались ей прочнейшей из основ, залогом постоянства окружающего мира. Кто мог избавить ее от глубокого ужаса перед смертью, ей самой еще неведомой, или от жестокостей жизни, — неужто летчики или женщины в родах?! О нет, только Фонтранж, только Моиз, которых не смогли подкосить прожитые ими шестьдесят лет. Молодость в глазах Эглантины выглядела карнавальной маской; она предпочитала честную, неприкрытую старость. Ее пугали черные волосы, розовые щеки; светлые глаза без прожилок, гладкий лоб были для нее предвестием смуты, осложнений, всего, чего она стремилась избежать. Нередко она шла на свидание к Моизу с тайным страхом в душе, с опасением, что плохо разглядела его; что сейчас увидит вместо него более молодого человека, которому еще только предстоит постареть, — словом, такого, каким сам Моиз в этот момент и силился казаться, прибегая по утрам к самым модным бритвам и кремам для лица. Но стоило ей с порога заметить единственные седые волосы в толпе посетителей, морщины, укрывающие единственную тень в этом зале, взгляд, который безошибочно находил ее в толпе (ибо Моиз был дальнозорок), хотя и казался ей близоруким, как ее влекла к нему теплая волна благодарности, озарявшей ее личико, и без того самое молодое из всех, еще более ярким блеском юности.
Читать дальше