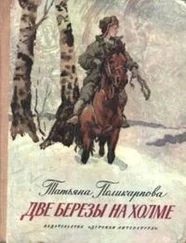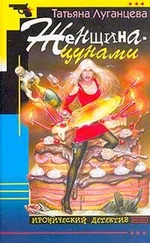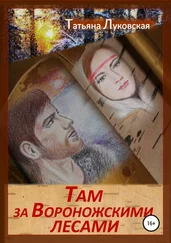А любовь… Она сама по себе. Меня не спрашивала. Ну, чтоб совсем не зачахнуть, нужно было мне иной раз видеть того . Я ездила во Псков. Остановиться было где: там свекровь. Потом и моя мама с отчимом и сестрой вернулись с Севера. Они вербовались туда на пять лет.
Съезжу, увижусь и — дальше живу. Он лет десять не женился. Я его уговаривала, чтоб не тянул, чтоб скорей… Будто знала! Только это с ним случилось, как моя любовь прошла. Когда последний раз виделись — он уж был женатый, сам приезжал сюда, — спрашивает меня: «Написала новые стихи?» «Нет их больше, — говорю. — В восемьдесят третьем последние были. Больше не пишутся».
А в том году он как раз и женился…
…Тут я и ахнула про себя: «Мать моя! Еще и стихи! Ну, Петрова…» А она продолжала:
— Он понял меня. Опустил голову: «Прости меня», — говорит. «За что тебя прощать? — я ему. — Разве ты виноват? Если искать, кто виноват, то вот она, я…» — И Зоя Петровна легко вздохнула. — Так Костя своего добился. Нутро, сила вот эта, — она постучала себя пальцами под ложечкой, — всегда легкую душу пересилят. Так и Костя… И меня… И того … Таких, как Костя, больше нет… Я его уважаю… Ведь он знал, что я езжу во Псков видеться с тем . И никогда слова не сказал… Да… Добился своего и меня уж не мучил. Давал дышать. Вроде и не ревновал. Не знаю уж…
А жалко мне, что прошла моя любовь! И стихов жалко. Конечно, если сесть да задуматься, сложу. Только сидеть-то некогда! А раньше они сами приходили, их и не просишь. В любое время. Так сердце стиснет, так тёмно, плохо, будто удушье… Ну, просто деваться некуда… А глядишь, словами, словами и уйдет… Облегчение…
А! Сейчас и весной не так больно… То есть сладко… И осенью не так пусто… И зимой не так тёмно… — Замолчала… — А, все уже не так!
— А летом? — спросила я, чтоб ее развеселить. Она поняла, рассмеялась:
— Летом — одинаково: некогда! Сад у нас…
…Что-то часто стала примолкать Зоя Петровна. Но я ждала стихов, не понукая ее. И дождалась. Словно нехотя, как-то вяло, она сказала:
— Да у меня все больше о природе… Вы не думайте, что признания какие-то… Идешь на работу весной… А-а… Что объяснять… Вот послушайте, что помню…
Зеленым дымом занялась береза.
Сияет ствол — утешная свеча.
Пришла опять весна, просохли слезы.
Любовь моя, как жизнь, горька, но горяча.
Я здесь. Ты — там. Ну что ж! Мы оба живы.
И сердце в лад с твоим торопится поспеть.
А если вдруг умру, то прядью гибкой ивы
Склонюсь к тебе, чтоб слезы утереть.
То веткой ивы. То листом сирени. То доброю
ладонью лопуха.
А то в жару платком прохладной тени
Коснусь щеки и лба, приветливо тиха…
«Живи, любимый мой», — ты мой услышишь
голос.
Он будет петь в тебе, как твой звучит во мне.
Просвищет соловей, прошепчет в поле колос:
«Живи. Прости меня. И — помни обо мне».
— Да, правильно, это стихи о природе, — сказала я, справившись с каким-то непонятным стеснением в горле… С чего бы? Главное, такие гладкие, правильные стихи… Ах ты, Петрова, Петрова… Любит, чтоб шовчик был выведен, как по ниточке… Я-то ждала чего-нибудь жарко-корявого, доморощенного, а тут на тебе: романс…
— И много у вас таких?
— Много… Уж забываю многие…
— Не записывали?
— Мало записывала… Да ни к чему…
По-моему, и ей стало трудно говорить. Стихи, сказанные вслух, произвели странное какое-то действие. Зоина жизнь встала вдруг вся целиком перед нею самой и мной, невольным заочным ее свидетелем…
Больше она ничего не стала рассказывать.
— Давайте-ка лучше песни петь! — шепнула мне озорно, подтолкнув плечом. — Ну их, эти мои стихи! Прошло — проехало! Э-эх!
И запела с особым напором и страстью, оттого что приходилось сдерживать голос в спящем автобусе: «Э-эх, мама, мама, мама! Белая панама!»
Автобус урчанием и глухим гудением прикрывал пение Петровой.
Это не совсем обычная история. Поэтому, прежде чем рассказать ее, лучше с самого начала объяснить, кто такие Питкин, Кис и Хозяйка.
Главная среди них — Хозяйка. Она взрослая женщина, у нее есть Кис. Не кот или кошка, как можно было бы подумать, а просто сын, мальчик девяти лет, у которого есть обычное человеческое имя. Но мама зовет его Кис, поэтому и мы станем называть его так.
Мама Киса — Хозяйка по отношению к Питкину. А Питкин — это цыпленок. Поскольку же история наша о том, как этот цыпленок превратился (почти превратился!) в человека, и как раз благодаря Хозяйке, то, конечно, справедливей называть ее здесь именно Хозяйкой, а не мамой, как зовет Кис. Ведь далеко не каждый цыпленок почти превращается в человека!
Читать дальше