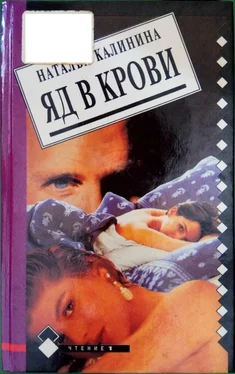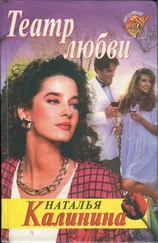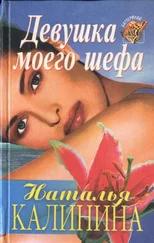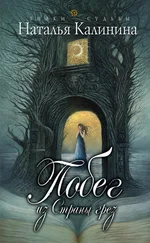…Американцы по уши погрязли в политике, голоса их дикторов были словно лишены всех без исключения человеческих чувств. Зато «Радио Варшавы» передавало какую-то оперу. Толя немного понимал по-польски — это произошло как-то само собой, и он даже не сразу об этом догадался. Он узнал в антракте, что давали прямую трансляцию из сицилийского города Катанья оперы Беллини «Норма». Диктор перечисляла состав исполнителей, коротко излагая их биографии. Норму пела молодая американка с красивой звучной фамилией — Грамито-Риччи. Диктор сказала, что она очень красива и обладает редким по диапазону голосом, а также ярко выраженным сценическим «персоналите». «Она получила недавно премию на конкурсе в Барселоне, — рассказывала веселая молодая полька. — До этого брала частные уроки пения в Нью-Орлеане и Хьюстоне у известных в прошлом вокалистов. Это очень большая честь петь Норму на сцене театра Беллини в день рождения великого маэстро, и ее удостаиваются далеко не многие даже очень известные певцы».
Толя собрался было повернуть ручку приемника, но тут снова зазвучала музыка, и он сразу оказался в полной ее власти. Она перенесла его в неведомую страну, где все было близко и понятно — даже не верилось, что так может быть. Он не знал содержания «Нормы», да ему и не хотелось его знать — любую музыку он привык наполнять своим собственным содержанием. «Быть может, Маша тоже поет в этой опере», — невольно промелькнуло в голове.
И вдруг он услышал ее голос. В том, что это пела Маша, у него не возникло ни малейшего сомнения. Он медленно поднялся с табуретки и, с опаской глядя на приемник, точно тот мог взорваться, отошел в дальний угол комнаты и присел на корточки. Во рту пересохло, сердце превратилось в большой тяжелый ком, который с трудом ворочался под ребрами. «Я умру сейчас, — подумал Толя. — Нет, я, наверное, буду жить. Но мне так больно… Как хорошо, когда так больно. Пусть будет еще, еще больней…»
Он почувствовал, как мозг, ставший после болезни свинцово тяжелым и утомленным, пронзило миллиардами острых иголочек и в нем стала стремительно циркулировать кровь. Такими же иголочками пронзило ладони, ступни ног, суставы плеч, живот. Он вдруг вскочил и кругами заходил по комнате. Потом побежал. Захлопал в ладоши. Наконец, повалившись на спину, задрал ноги и стал с силой молотить ими воздух.
Опера закончилась очень быстро — или же так показалось Толе, погруженному в свои думы. Полька снова что-то рассказывала, но теперь Толя понимал лишь отдельные слова, которые никак не мог соединить в предложения. «Успех… Корзины цветов… Восходящая звезда…» — только и дошло до него.
— Бабушка! — Толя вихрем ворвался в комнату Таисии Никитичны. — Я ее слышал! Она — восходящая звезда. Я знал, бабушка, что это случится.
Таисия Никитична сидела на кровати, свесив тонкие голые ноги, и читала «Правду». Взглянув поверх очков на внука, она сказала:
— Будешь дураком, если кому-то расскажешь об этом. Минимум пять лет дадут. И дом конфискуют в пользу государства. А мне-то куда на старости лет деваться? Ты обо мне подумал?
— Бабушка, да ведь она так поет… Я… я чуть не задохнулся от… — Он не мог подобрать нужных слов и только улыбался, отчаянно жестикулируя руками.
— Соседи донесут, что ты каждый божий день вражеские голоса слушаешь, и тебе еще годика три накинут. Строгого режима, — продолжала Таисия Никитична, громко шурша газетными листами. А еще, не приведи Господь, всплывет, что у тебя от этой женщины есть сын…
Толя пятился к двери. Он смотрел на бабушку круглыми от изумления глазами и все время тряс головой.
Когда за внуком закрылась дверь. Таисия Никитична перекрестилась, свернула газету в несколько раз, засунула под матрац и сказала, обращаясь к лежавшему на подушке белому мордатому коту:
— Менингит оставляет следы на всю жизнь. Ничего не поделаешь, Кузьмич. Но она его и такого без памяти любит. Надо же, как парню повезло…
Толстая пожилая медсестра загородила собой дверь в палату. Она лопотала что-то на сицилийском диалекте, все время норовя толкнуть Бернарда Конуэя в грудь. Но она была настоящей коротышкой — макушка ее грязно-бирюзового колпака оказалась где-то на уровне его солнечного сплетения. Поняв, что ей не удастся осуществить свое намерение, медсестра крепко вцепилась ладонями в ремень его брюк, и он буквально втащил ее за собой в палату.
— Я договорился с доктором Гульельми. Я брат синьоры.
Медсестра ни слова не понимала по-английски и продолжала лопотать что-то свое. Тогда Бернард схватил ее за толстые запястья и крепко их стиснул. Сестра пронзительно взвизгнула и отпустила его ремень. Он взял ее за плечи, поднял в воздух и выставил за дверь, которую тут же запер изнутри на торчавший в замочной скважине ключ, потом стремительно обернулся и увидел Машино лицо, бледные очертания которого растворялись в белизне подушки. Большие глаза смотрели на него испуганно и с мольбой.
Читать дальше