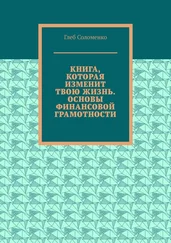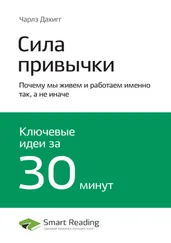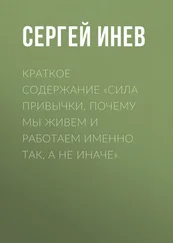Эксперты только начали разрабатывать необходимые инструменты для определения и сравнения нелинейных корреляций. Развитию методов корреляционного анализа способствует быстро растущий набор новых подходов и программ, которые способны выделять связи, отличные от причинно-следственных, с разных точек зрения, подобно тому как художники-кубисты изображали лицо женщины одновременно с нескольких ракурсов. Один из самых ярких примеров — быстро растущая область сетевого анализа. С ее помощью можно определять, измерять и рассчитывать самые разные узлы и связи — от друзей на Facebook до событий, предшествовавших судебным решениям, и сведений о том, кто кому звонит по мобильному телефону. Вместе эти инструменты предоставляют новые мощные способы отвечать на непричинные, эмпирические вопросы.
В эпоху больших данных корреляционный анализ вызовет волну новых идей и полезных прогнозов. Мы обнаружим связи, которые не замечали прежде, и поймем сложные технические и социальные движущие силы, суть которых уже давно перестали улавливать, несмотря на все усилия. А самое главное, корреляции помогают нам познавать мир, спрашивая в первую очередь что , а не почему .
Поначалу может показаться, что это противоречит здравому смыслу. Людям свойственно постигать мир сквозь призму причинно-следственных связей, исходя из убеждения, что все имеет свою причину, стоит только хорошенько присмотреться. Узнать причину, которая стоит за тем или иным явлением, — разве не это должно быть нашим высшим устремлением?
Из глубины веков тянется философская дискуссия о том, существует ли причинность на самом деле. Если каждое явление имеет свою причину, то логика подсказывает, что мы, по сути, ничего не решаем. Выходит, человеческой воли на самом деле не существует, поскольку наши мысли и принимаемые решения имеют причину, которая имеет свою причину, и т. д. Вся линия жизни определяется причинами, которые приводят к определенным последствиям. Таким образом, философы спорили о роли причинности в нашем мире, а порой и противопоставляли ее свободе выбора. Однако обсуждение этой полемики не входит в наши планы.
Говоря о том, что люди смотрят на мир сквозь призму причинно-следственных связей, мы, как правило, имеем в виду два основных способа постижения мира: с помощью быстрых, иллюзорных причинно-следственных связей и путем медленных, методичных казуальных экспериментов. Корреляции между большими данными изменят роль и того и другого, и в первую очередь — нашего интуитивного желания искать причинно-следственные связи.
Мы склонны предполагать причины даже там, где их нет. Это не связано ни с культурой или воспитанием, ни с уровнем образования человека. Такова особенность человеческого мышления. Когда мы рассматриваем два последовательных события, наш ум одолевает желание увидеть связь между ними. Вот три предложения: «Родители Фреда прибыли поздно. Вот-вот должны были подойти поставщики. Фред злился».
Читая их, мы сразу интуитивно определяем, почему Фред злился: не потому что поставщики были уже на подходе, а потому что его родители припозднились. Это не следует из предоставленной информации. Однако мы не можем удержаться от умозаключения, что наши предположения — причинно-следственные связи, основанные на полученных фактах.
Дэниел Канеман, профессор психологии в Принстоне, который получил Нобелевскую премию по экономике в 2002 году, на этом примере показывает, что нам свойственны две формы мышления. Одна — быстрая и не требует больших усилий. Она позволяет делать выводы за считаные секунды. Другая форма — медленная, трудоемкая и требует «обдумывания» того или иного вопроса. [65] Канеман: Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. — 2011. — P. 74–75.
Быстрый способ мышления по большей части склонен находить причинно-следственные связи даже там, где их нет. Он предвзято воспринимает информацию для подтверждения имеющихся знаний и убеждений. В древние времена быстрый способ мышления был полезен и помогал выжить в опасном окружении, где, как правило, приходилось принимать решения мгновенно и в условиях ограниченной информации, но зачастую он далек от установления истинной причины тех или иных следствий.
Канеман утверждает, что, увы, очень часто в повседневной жизни мозг ленится думать медленно и методично. Тогда в дело вступает быстрый способ мышления. В результате мы часто «видим» мнимые причинно-следственные связи, а значит, совершенно неправильно воспринимаем окружающий мир.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

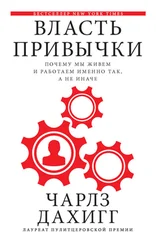
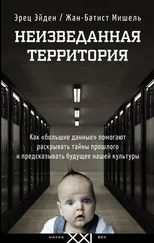
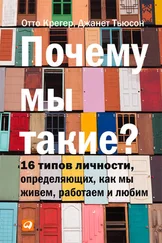
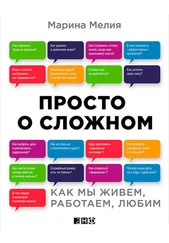

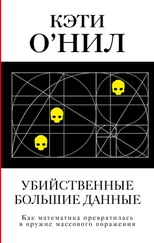
![Роман Зыков - Роман с Data Science. Как монетизировать большие данные [litres]](/books/438007/roman-zykov-roman-s-data-science-kak-monetizirova-thumb.webp)