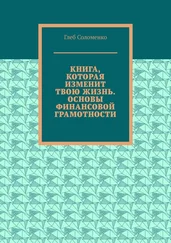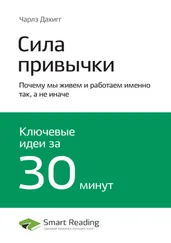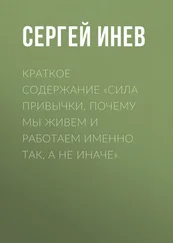Подхватив грипп, дети нередко слышат от родителей, что заболели из-за того, что не носят шапку и варежки в холодную погоду. Однако между заражением гриппом и тем, чтобы одеться теплее, нет прямой причинно-следственной связи. Почувствовав недомогание после ресторана, мы интуитивно будем пенять на еду, которую съели там (и, возможно, обходить стороной этот ресторан в будущем), хотя внезапное острое расстройство пищеварения может быть вызвано и другими причинами, например, если пожать руку зараженному человеку. Быстрое мышление запрограммировано быстро переходить к казуальным выводам, которые выдает мозг. И это часто приводит нас к неправильным решениям.
Вопреки общепринятому мнению, внутреннее ощущение причинности не углубляет нашего понимания мира. Во многих случаях это не более чем мыслительный «сокращенный путь», который дает нам иллюзию понимания, а на самом деле оставляет в неведении. Так же как выборки упрощали задачу, когда мы не могли обработать все данные, наш мозг использует познание причинности, чтобы избежать долгих и мучительных раздумий.
В мире малых данных могло пройти немало времени, прежде чем становилось ясно, насколько предполагаемые причинно-следственные связи ошибочны. В дальнейшем это изменится. Корреляции больших данных станут регулярно использоваться для опровержения предполагаемых причинно-следственных связей, убедительно показывая, что часто между следствием и его предполагаемой причиной мало, а то и вовсе нет статистической связи. А пока «быстрое мышление» заменяет нам масштабную и длительную проверку действительности.
Будем надеяться, что стремление познать мир заставит нас думать глубже (и размереннее). Но даже медленное мышление — второй способ, которым люди распознают причинные связи, — изменится ввиду корреляций между большими данными.
Категории причинности настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что мы полагаем, что причинные связи легко показать. Это не так. В отличие от корреляций, математика которых относительно проста, причинность не имеет очевидных математических «доказательств». Мы не можем с легкостью выразить ее в виде обычных уравнений. Таким образом, даже если думать медленно и старательно, то отыскать убедительные причинно-следственные связи непросто. Наш мозг привык к тому, что информации всегда недостаточно, поэтому мы склонны делать выводы на основе ограниченного количества данных. Хотя, как правило, внешних факторов слишком много, чтобы сводить результат к определенной причине.
Возьмем, к примеру, вакцину против бешенства. 6 июля 1885 года к французскому химику Луи Пастеру привели девятилетнего Йозефа Майстера, которого укусила бешеная собака. Пастер как раз работал над экспериментальной вакциной против бешенства. Родители Майстера умоляли Пастера применить вакцину, чтобы вылечить их сына. Он согласился, и Йозеф Майстер выжил. В прессе пошла слава о том, что Пастер спас мальчика от верной мучительной смерти.
Но спас ли на самом деле? Как оказалось, в среднем лишь один из семи человек, укушенных бешеной собакой, заболевает. Даже если предположить, что экспериментальная вакцина Пастера была эффективной, она понадобилась бы только в одном из семи случаев. С вероятностью около 85% мальчик выжил бы и так.
В данном случае считалось, что Йозеф Майстер вылечился благодаря введению вакцины. Но под вопросом остаются две причинно-следственные связи: одна — между вакциной и вирусом бешенства, другая — между укусом бешеной собаки и развитием болезни. Даже если первая связь верна, то вторая — лишь в редких случаях.
Ученым удалось решить вопрос наглядности причинно-следственных связей с помощью экспериментов, в которых можно было применить или исключить отдельно взятую предполагаемую причину. Если применение причины влияло на результат, это означало наличие причинно-следственной связи. Чем тщательнее контролировались обстоятельства, тем выше была вероятность того, что эта связь правильная.
Таким образом, как и корреляции, причинность редко удается (если вообще возможно) доказать. Можно лишь показать ее с высокой степенью вероятности. Но, в отличие от корреляций, эксперименты для подтверждения причинно-следственных связей, как правило, неприменимы на практике или ставят непростые этические вопросы. Какие эксперименты помогут определить лучшие среди 50 миллионов условий поиска, прогнозирующих грипп? А в случае прививки от бешенства — неужели мы смогли бы допустить мучительную смерть десятков, а может, и сотен пациентов в качестве «контрольной группы», которой не сделали прививку, имея нужную вакцину? Даже применимые на практике эксперименты остаются дорогостоящими и трудоемкими.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

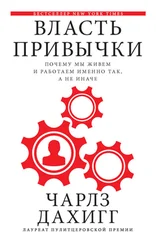
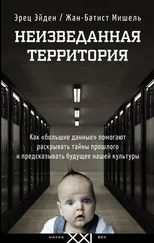
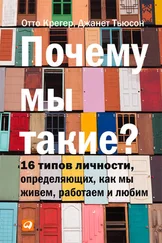
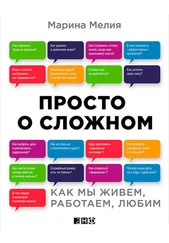

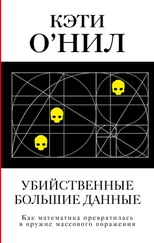
![Роман Зыков - Роман с Data Science. Как монетизировать большие данные [litres]](/books/438007/roman-zykov-roman-s-data-science-kak-monetizirova-thumb.webp)