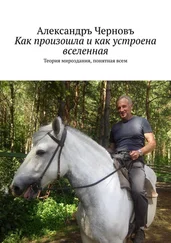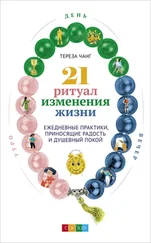Власть Европейского союза зиждется на деньгах и праве устанавливать правила. Как видно из последних «спасательных пакетов» для таких «периферийных» стран, как Греция и Испания, некоторая часть его влияния основывается на финансовой мощи. Но еще более важна способность ЕС диктовать правила в отношении всех аспектов экономики (или других сфер) в странах, входящих в его состав, в том числе это касается бюджета, конкуренции между компаниями и условий труда. Решения здесь принимаются на основе голосования по принципу квалифицированного большинства (КБ), в котором количество голосов, принадлежащих каждой стране, отражает численность ее населения, но только до определенного момента, по аналогии с распределением голосов коллегии выборщиков для президентских выборов в США среди пятидесяти штатов США. В совете Европейского союза Германия имеет в десять раз больше голосов, чем Мальта (29 против трех), но и население первой превышает население Мальты больше, чем в 200 раз (82 миллиона против 0,4 миллиона жителей).
МОТ очень отличается от других организаций системы ООН. В то время как другие органы ООН представляют собой межправительственные организации, МОТ – это трехсторонний орган, состоящий из правительств, профсоюзов и объединений работодателей, с распределением голосов между тремя группами в соотношении 2:1:1.
Целый ряд исследований подтверждают, что студенты экономических факультетов более эгоистичны, чем остальные. Отчасти, наверное, это результат выбора конкретных людей: узнав, что экономическое образование подчеркивает значение своекорыстия, склонные к нему люди, вероятнее всего, почувствуют, что это их предмет. Либо же это результат самого образования: постоянно слушая о том, что каждый человек преследует лишь эгоистичные интересы, студенты-экономисты могут начать воспринимать мир через призму корыстолюбия.
За исключением очень ограниченного ряда товаров и услуг, потребляемых туристами.
Эта точка зрения очень точно и понятно объясняется в книге J. Aldred, The Skeptical Economist (London: Earthscan, 2009), рр. 59–61.
Из беседы Ричарда Лэйарда с Джулианом Баггини, см. ‘The conversation: can happiness be measured?’, Guardian, 20 July 2012.
После Гамбии, Свазиленда, Джибути, Руанды и Бурунди.
Еще в 1995 году ВВП Экваториальной Гвинеи на душу населения составлял всего лишь 371 доллар в год и страна считалась одной их тридцати беднейших в мире.
Нижеприведенная информация о горнодобывающей промышленности США взята из G. Wright and J. Czelusta, ‘Exorcising the resource curse: mining as a knowledge industry, past and present’, working paper, Stanford University, 2002.
Такие темпы роста означают, что в 2010 году в Германии доход на душу населения был на 11,5 процента выше, чем в 2000-м, в то время как в США – всего на 7,2 процента.
Следующие данные по научным исследованиям и разработкам взяты из доклада ОЭСР Perspectives on Global Development 2013 – Shifting Up a Gear: Industrial Policies in a Changing World (Paris: OECD, 2013), Chapter 3, fgure 3–1.
В бедных странах, где работает несколько крупных корпораций, проводящих собственные научные исследования и разработки, подавляющее большинство НИР финансируется правительством. В некоторых странах это соотношение может быть около 100 процентов, но обычно оно составляет 50–75 процентов. В богатых странах доля правительства в НИР меньше – обычно 30–40 процентов. Значительно ниже она в Японии (23 процента) и Корее (28 процентов), а вот Испания и Норвегия (в обеих по 50 процентов) находятся на другом краю. В США сегодня это соотношение составляет около 35 процентов, хотя во время холодной войны, когда федеральное правительство страны тратило огромные деньги на оборонные исследования, было значительно выше – 50–70 процентов (см. главу 3).
Отчет департамента по делам бизнеса, предпринимательства и реформы управления Globalisation and the Changing UK Economy (London: Her Majesty’s Government, 2008).
Бывший министр промышленности Франции Пьер Дрейфус. Цит. по: P Hall, Governing the Economy (Cambridge: Polity Press, 1987), р. 210.
Если не указано иное, данные в настоящем и в следующем разделах взяты из H.-J. Chang, ‘Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent’, Journal of Peasant Studies , vol. 36, no. 3 (2009).
С учетом промышленного сектора доля в ВВП составляла 30–40 процентов. Сегодня ни в одной из этих стран она не составляет больше 25 процентов. Данные взяты из O. Debande, ‘Deindustrialisation’, EIB Papers , vol. 11, no. 1 (2006). Доступно для скачивания по ссылке: http://www.eib.org/attachments/efs/eibpapers/eibpapers_2006_v11_n01_en.pdf.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
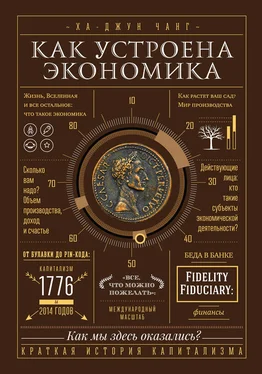
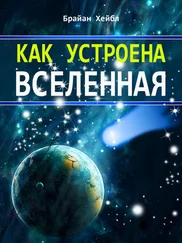
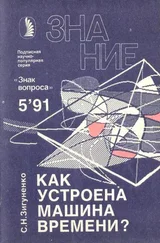
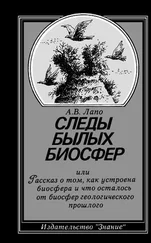

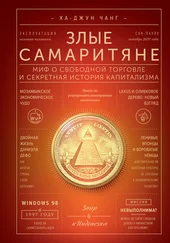


![Илья Кнабенгоф - Анатомия шоу-бизнеса [Как на самом деле устроена индустрия] [litres]](/books/387911/ilya-knabengof-anatomiya-shou-thumb.webp)