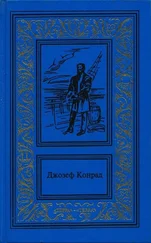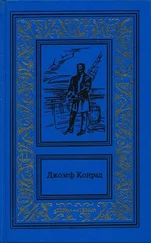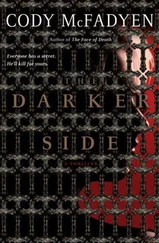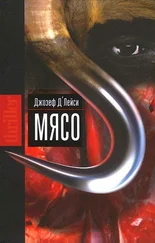Едва он вышел, мы дали волю упрекам и обвинениям.
Когда же мы смогли спокойно оценить случившееся, выяснилось, что расписание действительно было изменено два дня назад: вместо 6:11 поезд отбывал в 5:58. Подошел facchino [257] Носильщик (итал.)
, и мы вчетвером сели и рассудили ситуацию.
— Будет ли еще поезд?
— Нет.
— Тогда мы можем остановиться в «Albergo del Sole»?
Смотритель провел указательным пальцем по горлу, характерно щелкнув языком, чем полностью снял вопрос.
— Тогда нам придется остаться здесь, на станции.
— Но, синьор, я холост и живу здесь с одними facchini. У меня всего одна спальня. Это невозможно!
— Ведь нам все равно нужно где-то заночевать. И поужинать. Что же нам делать?
Мы ловко переложили всю ответственность на плечи бедного старика, который снова начинал распаляться. С минуту он ходил взад-вперед по станции, затем подозвал facchino.
— Джузеппе, сходи к вилле и спроси, смогут ли два forestieri [258] Чужестранцы (итал.)
, пропустившие поезд, остаться там на ночь.
Протестовать было бессмысленно. Facchino ушел, и мы с беспокойством ожидали его возвращения. Когда стемнело и луна взошла над горами, нам казалось, он уже не придет. Но тот наконец явился.
— Синьоры могут остаться на ночь, их готовы принять. Но они не смогут там ужинать, потому что в доме нечего есть.
Это не удовлетворило старого смотрителя, и он вновь предался раздумьям. В результате маленький столик в комнате ожидания быстро превратился в обеденный стол, и мы с Томом принялись жадно поглощать огромный омлет с хлебом и сыром и пить невероятно кислое вино с таким удовольствием, будто это был настоящий Шато д'Икем. Facchino с неловкой доброжелательностью нам прислуживал. Мы позвали нашего нервного старика сесть с нами и разделить свое собственное радушие, и у нас получился достаточно веселый званый ужин. За вином и сигаретами мы даже забыли о ближайших часах, с десяти вечера и до рассвета, которые нам предстояло провести в неясной мгле.
Когда Джузеппе наконец повел нас к таинственной вилле, на нас нахлынуло дурное предчувствие, и мы старались развеять его шутками. Пока мы взбирались по влажной тропе, луна светила высоко над головой, выглядывая между чернильно-черными изгородями с обеих сторон. Как же там было тихо! Ни дуновения ветра, ни живого звука — лишь жуткое безмолвие, не прерывавшееся две тысячи лет над этим огромным кладбищем.
Мы вошли в расшатанные ворота, а затем продолжили свой путь в лунном свете по лабиринту корявых фруктовых деревьев, сгнивших сельскохозяйственных орудий и бревен. Впереди была небольшая дверь — единственный вход на первый этаж этой брошенной крепости. Холодное безмолвие нарушилось резким лаем собак где-то вдалеке, справа от нас — за амбарами, занимавшими половину двора. От виллы не исходило ни света, ни звука. Джузеппе постучал в потрепанную дверь, и стук эхом повторился, но ответа не последовало. Он стучал снова и снова, пока наконец мы не услышали скрежет засовов. Дверь приотворилась, и мы увидели очень старого мужчину, согнувшегося от возраста и изможденного от болезни. Над головой он держал большую римскую лампу с тремя фитилями, и та вырисовывала странные тени на его лице — безвредном от старости, но нестерпимо печальном. Он не ответил на наше робкое приветствие, но, вздрогнув, подвинулся, чтобы мы вошли. Пожелав Джузеппе спокойной ночи, мы подчинились и встали посреди каменной лестницы, ведущей прямо от двери. Старик медленно закрыл каждый засов и установил тяжелую перекладину.
Затем мы последовали за ним в полутьме по ступеням в большой холл. Здесь был зажжен огромный камин, и его композиция была так прекрасна, что мы с любопытством переглянулись. В его неровном свете было видно огромное круглое помещение под плоским, имевшим форму блюдца сводом, — помещение, которое, очевидно, когда-то обладало величием, а теперь превратилось в жалкую развалину. Фрески на своде имели пятна, штукатурка местами отвалилась. На резных дверях отсутствовала половина золота, которым они когда-то были покрыты. В брусчатом полу были продавлены коварные впадины. Грубые сундуки, груды старых газет, приспособления для запряжки, орудия для работы на ферме, куча ржавых карабинов и ножей, неописуемый мусор из всевозможных вещей — во всем этом чувствовалась царившая в помещении дикость, казавшаяся в свете огня еще более выразительной, чем была на самом деле. На весь этот беспорядок в своей выцветшей наготе взирали с бессмысленными улыбками бледные фигуры нимф XVII века.
Читать дальше