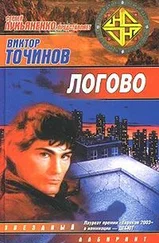Аверьяныч перетолмачил. Немцы-близнецы удивленными не выглядели, видать, пообвыклись в Расее. Квакнули что-то еще по разу и потеряли интерес к вновь рекрутированному санитару.
Подфелшар объяснил:
– Велят, если перстень вдруг найдешь у больных и померших, али крест золотой нательный, али еще что дорогое, – так чтобы с найденным в кабак не бежал, чтоб сюда нес и мне под отчет сдавал, строго с энтим у нас.
Строго так строго, не за крестами нательными он сюда заявился.
Вскоре названый Иван получил здешний мундир: провощенный плащ, и сапоги, и длинные, по локоть, перчатки. В придаток выпросил рубаху, взамен замаранной и разорванной: дали плохонькую, не беленую, но иных тут не имелось.
Только личину птичью не выдали: дескать, ни к чему она тебе, один раз уже черной смерти избегнувшему.
Он запечалился – отпугивать заразу страхолюдным клювом и стеклянными очами считал глупым, но под личиной уж точно никто бы его не узнал. Но не надолго: упрятал бороду под высокий край плаща, башлыком накинулся, тот спереду сполз ниже носа. Взял в руки обломок зеркала, что на стене висел, глянулся, опустив тот пониже: и так не опознают, разве что под ноги заползут, снизу вверх глядючи.
А затем и первых заболевших подвезли, с дальней заставы, – карантин собрался там большой, не чета малому, среднерогаточному.
Длинная открытая фура с болящими катила медленно, и позади нее шагал мортус – при всем параде, в плаще и личине. При виде его названый Иван изумился. Всякого он насмотрелся, за войны и за странствия, но такого… Нет, не видывал.
Он не сразу сообразил, где он и как сюда попал, и такого с ним не случалось давненько. Обычно, едва проснувшись, он тотчас понимал, где довелось уснуть.
Сейчас же не менее минуты смотрел на склонившееся над ним женское лицо, не мог взять в толк: кто это? И где он, тоже не понимал… По истечении минуты тоже не понял.
– Очнулись, Николай Ильич? – спросила женщина, нет, девица… лицо вроде знакомое… но как же ее зовут…
Полутемная комната была освещена странным образом: свет шел полосами, словно от нескольких фонарей со слегка приотворенными дверцами, и выхватывал из полутьмы, подсвечивал отдельные детали. Одна полоса осветила балдахин над его головой, некогда роскошный, а ныне обветшалый, с обрывками выцветшего глазету, большей частию ободранного, и с гарусовыми кистями, траченными молью. Другая – кусок стены, где за расползшейся обойной тканью виднелись доски. Третья же – лицо девушки, единственное живое и свежее пятно в этом мертвом царстве.
«Кто вы?» – хотел он спросить, не получилось, он сделал над собой усилие, разлепил губы и все-таки произнес:
– Кто вы?
– Я Маша, Маша Боровина, вы не помните? Мы вместе в карантине.
Глаза ее блестели, голос звучал волнительно, слегка подрагивал… Давно так на него не смотрели девушки, и не обращались подобным тоном тоже давно.
Маша… Машенька, так она просила ее называть… Память неохотно возвращалась.
– Я помню, Машенька… – сказал он.
С каждым словом язык и губы слушались все лучше, но улыбнуться, как намеревался, толком не получилось. Он и в лучшем своем состоянии плохо умел улыбаться.
Он чувствовал, что слаб, и сомневался, что сумеет встать. Из тела словно кто-то повыдергивал мышцы, заменив их мягким льняным очесьем. Голова категорическим образом не желала ни о чем размышлять… Словно решила, что, вспомнив Машеньку, потрудилась сегодня для своего владельца с избытком и спешно отправляется на вакацию.
На волосах ощущалось нечто чужеродное… Он потянул было туда руку, движение ее удавалось с трудом.
– Не троньте, у вас там рана, – предупреждающе сказала Машенька.
Он оборвал свой жест, раз уж все прояснилось. Рана так рана, не впервой… И стал пытаться размышлять дальше.
«Карантин, – зацепился он за произнесенное Машенькой слово, – мы вместе в карантине… но не только же вместе с ней… да, нас пятеро… в заброшенном Путевом дворце, в двух смежных комнатах с заколоченными окнами…»
Пятеро…
Прислушался: ни единого звука, свидетельствующего о присутствии людей, из соседнего помещения не доносилось, даже самого слабого.
– Что с остальными? – спросил он с нехорошим подозрением.
– Папеньку забрали. И Савелия Иваныча с ним вместе, третьего дня. И маменьку. Последней, сегодня утром.
Третьего дня?! Который же день он лежит?
Он ничего не стал спрашивать, он понял вдруг, что и глаза у Машеньки поблескивают, и голос чуть подрагивает отнюдь не от манерного девичьего волнения…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу