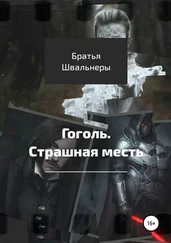Сойдя с каретных подмостков, он вдохнул полной грудью тот чудесный чистый воздух, коего не было ни в заснеженном Петербурге, когда покидал его, ни в жарком и пыльном песчаном Иерусалиме. И впрямь, права была мать, когда говорила, что здесь болезнь наконец оставит его. Николай Васильевич улыбнулся, глядя на бегающих взад-вперед с его вещами слуг, которые размещали чемоданы в выделенной писателю комнате, на горящие костры и факелы, освещавшие темный двор так, что светло было, как днем, и вдыхая наряду со свежим воздухом Полтавщины запах жареных поросят и только что выгнанной горилки.
Скоро они с Семеном сидели уже за столом в шинке на постоялом дворе. Изголодавшийся с дороги и порядком уставший Семен ел от пуза и так же обильно пил, чего нельзя было сказать о Николае Васильевиче, который ел мало, так как опасался желудочного расстройства. Внутренности у него были и без того слабые, а тут еще эта болезнь совсем некстати. Хинин, который писатель был вынужден принимать и который, казалось, совсем не помогал от болезни, другого лекарства от которой просто не было выдумано, расстраивал кишечник, и переедание могло быть для писателя чревато. Однако, немного горилки он все же себе позволил. Обычно она действовала на него угнетающе и плохо, от нее сразу клонило в сон и тошнило, а сегодня едва отходящий от болезни Николай Васильевич сразу захмелел и даже повеселел после возлияния.
За соседним столом сидел бурсак, отправлявшийся домой на вакансии, в окружении каких-то казаков, тоже, по всей видимости, из дворни здешнего боярства. Они уже были порядком пьяны – ученики церковных школ, с малолетства воспитуемые только березовыми палками, при малейшей возможности напивались чернее государевой шляпы, чем немало расстроили сейчас взгляд набожного писателя. Меж тем, в этом был закон жизни, который великий Александр Иванович Герцен сформулировал как «правило пружины» – простой русский человек, измученный работой крестьянин или батрак, всю неделю ломавший да гнувший спину на хозяина, под конец седмицы распрямляется так, как распрямляется железная пружина, на которую сначала долго-долго давят, а после отпускают пресс. Выгибаясь в обратную сторону, бьет эта пружина всех, кого ни попадя – как может запросто ударить любого зеваку увлекшийся горилкой бурсак, – потому что знает, что уже утром снова терпеть ей этот гнет. Воспоминание о словах знаменитого философа заставило Николая Васильевича по-другому, с пониманием и даже некоторым сожалением посмотреть на пьющего, которого его товарищи все пытали:
–А я хочу знать, чему вас в бурсе учат?! 4 4 Гоголь Н.В. Вий (сборник). М., Издательство: «Эксмо» 2014 г. ISBN: 978-5-699-69140-1
Писатель слушал их пьяную речь и понимал, что верно его предположение, сделанное по внешнему виду облаченного в жупан и стриженого на манер древни французских рыцарей школяра. Тот, хоть и был порядочно пьян, решил продемонстрировать свои умения – поставив полную чарку горилки на нос, наклонив голову назад на столько, на сколько хватало только возможностей, он вдруг резко выпрямился, чарка слетела с его лица, но была поймана его не менее проворными губами – и вмиг осушена да так, что, как говорил поэт, по усам текло, да в рот не попало.
Заулюлюкали, оценили его товарищи такое мастерство, и, несмотря на старый возраст свой, наперебой стали высказывать пожелания об устройстве собственной судьбы и разума:
–Я тоже пойду в бурсу!
–И я!
–И я – кто ж еще такому обучит, как не пан ректор?!
Громко смеялись, и не слышал за их смехом Николай Васильевич речи своего, обычно не умолкавшего, молодого слуги, а, когда повернул голову направо от себя, где сидел Семен, то увидел его спящего. Потряс его за рукав для приличия – не откликается, устал сильно. Николай Васильевич велел отнести слугу в людскую, а сам отправился к себе.
Сон не шел, он решил сотворить молитву, в которой вознести хвалу Господу. Болезнь, что настигла его в святом месте, не ослабила его веры, не сбила с пути истинного, на который он, как ему казалось, только-только начинает вставать после многолетних поисков себя. И никогда, ни в одном своем обращении к Господу, не просил он о своем здоровье, полагая его сугубо божьим промыслом и вообще недостойным каких-либо просьб.
«Конечно, католикам дается больше воли, в том числе в быту и обиходе, нежели, чем православным, – размышлял Николай Васильевич, стоя на коленях пред иконой в тускло освещенной, темной комнатке, выделенной ему хозяйкой постоялого двора для ночевки. – Но все равно вера их не вполне такая, какой задумывал истинное служение Господь наш. Более походит она на театральную игру, в которой у каждого – своя роль, свой удел, который напрямую зависит от социального твоего положения и кармана. А будет удел иным – и слова иными станут, и роль изменится. Не искренне, не живо. Иное дело вера наша, православная, которая мне, хоть по праву рождения и не положена, а все же исповедуется мной. Ну какой я Яновский? Я Гоголь, я русский человек, который и состоялся, и жизнь прожил, и прозрел в России, и не могу и не хочу от нее отрываться. Хоть и люблю Малороссию, а все же саму великую родину ни на нее, ни на что другое не променяю…»
Читать дальше