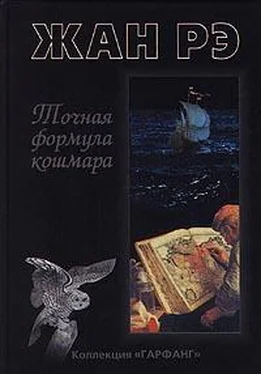А золото было горячее, как сама любовь… и коснулась я — руки еще не мужчины. Впрочем, какое мне дело… но кто же все-таки смеет противиться поступи рока? Кто он? Где он? Что он делает? Какая мне разница, а твоя чудесная густая шерстка больно уж разговорчива сегодня, мне остается лишь внять ее речи… Язычок пламени, колеблемый на ветру страха и мучения? Что-что? Он мечется во второй комнате, подслушивает, что происходит или произойдет по соседству? Ах, Лупка, когда-то все это называлось одним словом — молодость!
Замолчи… замолчи! Не смей видеть дальше, Лупка!
Она не звонила трижды в звонок любви, этого не понадобилось. И золота я от нее не получила, мне и дверь не пришлось ей открывать. Замолчи, замолчи… По твоей шерстке бегут искры — ведь даже ты, демон, боишься и почитаешь ее.
Ага! Три звонка, иду открыть.
А остальное — это дело самой ночи.
Так, в полудреме, сама с собой разговаривала мамаша Груль.
Внизу у лестницы послышался шум, и я покинул свой наблюдательный пост — праздное суесловие старухи мне надоело и вызывало лишь муторное ощущение, как всякое зрелище подобного распада.
Я приблизился к комнате, выходившей на палисадник.
Дверь открыта, в комнате никого.
Сердце мое сжалось — да, мерзавец Диделоо не солгал и не преувеличил, обещая Алисе гнездышко, достойное любви.
До сих пор удивляюсь, где в этом низком и невзрачном домишке, в этой застойной затхлой атмосфере под замшелой крышей скрывалось такое чудо неги и уюта.
За невесомой завесой прозрачного шелка в отделанных перламутром канделябрах горели свечи; в глубине очага, выложенного редкостным мрамором, на мелко наколотых поленьях, потрескивая, танцевал розовый и голубой огонь.
Взгляд не сразу улавливал очертания предметов обстановки, все как бы парило в белом и сиреневом, словно в сердце огромного снежного шара.
Стойкий запах тубероз витал в теплом воздухе, на консоли чеканного серебра клепсидра отсчитывала мгновения, роняя хрустальные слезинки.
На минуту я поддался очарованию места, пока вдруг не спохватился — ведь здесь, в этом мечтательно-голубом обрамлении должна умереть моя первая любовь. Но жгучая ревность очень быстро уступила место другому чувству: нечто невыразимо гнетущее властвовало над этой декорацией безмятежного покоя. И не надо мной нависла неизбывная угроза; скрытый ужас здесь, совсем рядом, и направлен не на меня.
Я хотел было предупредить об опасности Алису и даже дядю Диделоо, — но мое тело подчинялось уже не мне, а некой чуждой посторонней воле.
Словно сомнамбула, я, пятясь, отступил из комнаты и вошел в соседнюю дверь. По лестнице поднимались шаги.
Ох! После белого и сиреневого Эдема — клоака. Через окна, не прикрытые занавеской или ширмой, нахальная луна бесстыдно обнажала уродливое и гнусное мое убежище.
Дверь осталась открытой, лампа венецианского стекла освещала лестничную площадку: в неярком разноцветном свете четко обрисовался силуэт дяди Диделоо.
Он показался мне уродливым и смешным в своем рыжем пальто с откинутым капюшоном и в маленькой касторовой шляпе.
Поднимаясь по лестнице, Диделоо насвистывал один из тех пошлых мотивчиков, что я слышал сегодня на праздничных улицах.
В чудесной комнате он издал довольное хрюканье и к полному моему негодованию заблеял Песнь Песней несчастного Матиаса Кроока:
Я роза Сарона…
Имя твое, как разлитое миро…
Ах, негодяй! Трогательную песню, освященную кровью Матиаса, он извратил отсебятиной и пел на такой гнусный манер, что меня замутило:
Разлитое, разлитое миро
Тир-лим-пам, тир-лим-пам-пам, тир-лимпам-пам…
Тридцать шесть ножек — восемнадцать дырок…
Я, несомненно, кинулся бы на него, высказал в лицо все, что о нем думаю, и надавал пощечин, но все мое тело сковало ужасом. Ибо ужас явился…
Нечто огромное и черное беззучно поднялось по ступеням, миновало площадку и скользнуло к любовному гнездышку, где продолжал голосить Диделоо.
Я узнал маску с улицы.
Обладатель маски остановился перед моей дверью, лунный свет упал на него. Оказалось, я видел тогда не отталкивающую личину из картона, но истинный образ, словно явившийся из кошмарного сна.
Откинутый капюшон не скрывал голову пришельца — громадную, меловой белизны, с будто просверленными отверстиями налитых кровью глаз, в которых мерцали отсветы адского пламени. Ухмыляющийся огромный черный рот обнажился оскалом хищного зверя из породы кошачьих, с торчащими клыками — по ним то и дело сновал узкий раздвоенный язык.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу