Украшательства исходили в основном от Дуайера, а Парри радостно соглашался на что угодно, если оно добавляло великолепия службам. «Я уверен, что Господу надоели эти постоянные серенады», – сказал один архидиакон на собрании священнослужителей, и острое словцо мгновенно облетело всех англикан Торонто. Некоторые приверженцы Низкой церкви обзывали великолепные облачения «модными платьями». Но ни один епископ не решался бросить вызов грозному доктору Парри, который умел обосновать любое нововведение цитатой или прецедентом и продавить отца Хоббса. Талант доктора Парри и огромные суммы, которые он жертвовал на приход, давали ему особые привилегии. Дуайер тоже добился особого положения в приходе, но исключительно за счет своего острого ума.
Он изучал церковные обряды и традиции и стремился включить в службы у Святого Айдана абсолютно все, что находил живописного или просто необычного. Конечно, на службах усердно кадили – целые облака ладана при малейшей возможности. Обильно кропили святой водой, особенно на похоронах. Крестные ходы с транспарантами – не какими-нибудь штандартами сестричества или детского оркестра, но красивыми вышитыми хоругвями с изображениями орудий Страстей Господних, Девы Марии как Розы Мира, греческих букв, образующих слово Iχθνς, и вообще чего угодно, лишь бы усердный прихожанин раскошелился, чтобы сестры из монастыря Святого Иоанна кропотливо вышили это на шелковой подложке. И множество украшений: фелони, конечно, с роскошным золотым шитьем; покровы – казалось, бесчисленные; саккосы, гумералы и мантии при любой возможности. А кто определял, есть возможность или нет? Дарси Дуайер, конечно, и он же предъявлял обоснования, найденные в красивых и часто редких книгах. Именно он указал, что свечи в церкви можно зажигать только от кремня и кресала – под это определение идеально подходила обычная зажигалка. Именно он убедил священников надевать для литургии резиновые тапочки, чтобы, преклоняя колени, не демонстрировать пастве грязные подошвы своих сапог. Иногда казалось, что он заходит чуточку слишком далеко. Например, когда он предложил, чтобы диаконы и иподиаконы в момент, когда священник возносит Святые Дары, прикрывали рукавом глаза, словно ослепленные близостью Тела Христова. Отец Ниниан запретил это. Но потом, будучи человеком миролюбивым, разрешил по определенным двунадесятым праздникам, хоть и намекал, что это кажется ему чересчур театральным.
Театральным? Конечно, это было театрально. Пускай Дарси Дуайер работал в банке, но в душе он был режиссером и актером и не знал более высокого наслаждения, чем распоряжаться личным составом Святого Айдана для достижения подлинно впечатляющих эффектов. «Святой отец, если зрелище вызывает трепет и возвышает душу – не в этом ли наша главная цель?» Отец Хоббс не находился что ответить, хотя в сердце, возможно, питал сомнения. Я не знаю. Я ни разу не перемолвился с ним ни словом и даже не приближался к нему, исключая то утро, когда он так внезапно скончался у алтаря, – но до этого оставались еще многие годы.
Сначала я ходил к Святому Айдану ради зрелища. Но мало-помалу начал понимать смысл затейливых ритуалов и стал получать больше удовольствия от службы. Конечно, я, фрейданутый желторотый студент, не уверовал. Конечно, я находил в том, что делалось и говорилось во время службы, множество параллелей с упрощенческими теориями из «Золотой ветви» сэра Джеймса Фрейзера, которую когда-то прочитал в кратком изложении. Но я не устоял перед красотой того, что видел и слышал. Особенно григорианских песнопений.
Хор доктора Парри на галерке прекрасно исполнял церковную музыку разных веков, от Палестрины до самого доктора Парри. Одним из секретов этой красоты, как я узнал позже, было то, что он не позволял хору петь громче меццо форте . Поэтому никаких завываний – музыка словно плыла по воздуху. Но окончательно покорили меня григорианские песнопения.
Сначала я не знал, что это. Время от времени восемь мужчин, стоящих на отдельном месте перед алтарем, или – иногда – один Дуайер издавали нечто вроде очень певучей речи: каждое слово произносилось отчетливо, но подчинялось музыкальному строю, не похоже на обыденный разговор, но не похоже и ни на какую знакомую мне музыку, а с музыкой я к этому времени был знаком уже очень хорошо. Идеалом церковной музыки для меня был Бах, но Бах, даже пронизанный религиозным трепетом, все равно предназначается для исполнения. Эта же музыка предназначалась для Бога – не исполнение, а задушевный разговор с Ним. Форма речи, достойная слуха Всевышнего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Робертсон Дэвис Чародей [litres] обложка книги](/books/432189/robertson-devis-charodej-litres-cover.webp)

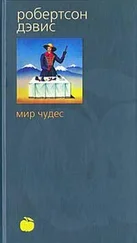






![Робертсон Дэвис - Убивство и неупокоенные духи [litres]](/books/435538/robertson-devis-ubivstvo-i-neupokoennye-duhi-litr-thumb.webp)
